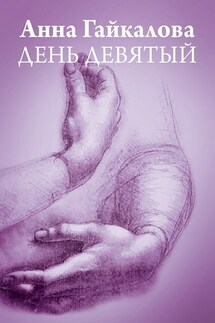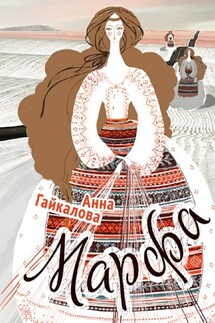Семьдесят шестое море Павла и Маши П. - страница 60
Щенок зевнул и повернул к людям брылястую морду с близко поставленными некрупными желто-карими глазами.
– Страх Господень, – сам того не ведая, нарек имя новому члену семьи, медленно качая головой, Владимир Иванович.
– Страх – Го… – по складам прошептала Маша, остальные завороженно промолчали.
Щенок спрыгнул с дивана, шумно напился, враскачку прошествовал под стол и улегся на Машины ноги. Накрахмаленная скатерть зашуршала, все наклонились посмотреть на такое чудо, но щенок никого вниманием не удостоил.
Дед Попсуйка радовался как никогда, и даже наградил комплиментом Лидию Александровну, она отмахнулась с негодованием, но словно лет на десять помолодела.
Владимир Иванович хотел было напомнить, что собакам лучше в доме не жить, нехорошо это, да и щенок большой и по всему вырастет в крупного пса, но, в который раз взглянув на дочь, промолчал.
Машу от гордости распирало, она поглядывала под стол или задумчиво смотрела перед собой, а Павел привычно раскачивался, то видя в ней прежнего ребенка, а то по глубокому взгляду, которым она оглаживала щенка, опознавал женщину, просыпающуюся к материнству.
К окончанию вечера Павел неожиданно для себя устаканился.
Он пришел к выводу, что никакого неприличия в его мечтах о Маше больше нет: она взрослая, почти студентка медучилища, и вообще ей скоро восемнадцать. Что же касается циркового антракта, при воспоминании о котором он терял способность уважать себя, то что антракт? – думал Павел, – если именно тогда ему удалось понять, что для него Маша значит. Он взбодрился, это не укрылось от глаз Владимира Ивановича и помогло тому смириться с тем, что отныне вместе с ними будет жить пес.
И только Нина Дмитриевна недовольно вздыхала, мысленно погружалась в себя и праздником осталась неудовлетворена. В этот вечер на нее не обращал внимания никто, кроме деда Попсуйки, который извлек откуда-то старый жакет с разодранными петлями и без пуговиц, при этом так горестно сокрушался, мол, не может его застегнуть, что Нине Прелаповой пришлось успокоить старика, заштопать петли и пришить к жакету новые пуговицы немедленно.
Никто не сомневался, что маленькое страшилище останется в доме Бережковых навсегда. В субботу двадцать пятого декабря, в день рождения деда Попсуйки соседи и гости прощались друг с другом и с повышенной торжественностью наклонялись погладить собаку, которая дальше пяти сантиметров от Машиного тапка не отдалялась.
Поесть Страхго согласился только на следующий день, а к вечеру его всей квартирой помыли. Эту фамильярность щенок перетерпел, но от мытья совершенно не изменился, разве что перестал отдавать неприятный налет рукам, которые его гладили. Впрочем, протянутых рук Страхго сторонился, его едва успевали коснуться, как он уходил. С Машей он не разлучался, и трудно было сказать, кто за кем неотвязно следует. В первую же ночь она, несмотря на протесты отца, попыталась взять щенка с собой в постель, но он не согласился на это сам, упрямо слезал с кровати на пол и укладывался рядом с Машиными тапками мордой к ее лицу, и это право себе отстоял. Если же Маши не было дома, щенок поворачивался в другую сторону и так лежал часами, не отводя взгляда от окна, как это делала в детстве его единственная хозяйка.
Отныне Машина жизнь исполнилась особого смысла. Прежде Владимир Иванович нередко завтракал и уходил на службу сам, пока дочь досматривала свои сны. Теперь по утрам она поднималась рано, – белая ночная рубашка в мелкий цветок, короткие, туго заплетенные косы с кудряшками на концах, а остальное – локти, коленки, тонкая шея. Она кормила отца, перекусывала и уходила гулять с собакой, подолгу бродя старыми переулками и бульварами. Маша так добросовестно выгуливала Страхго, что если бы он сам не поворачивал домой через пару часов, так и продолжала бы бродить, думая, что только это ему полезно.