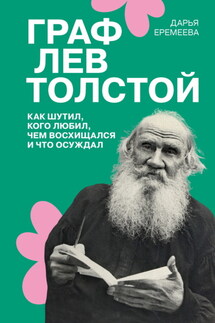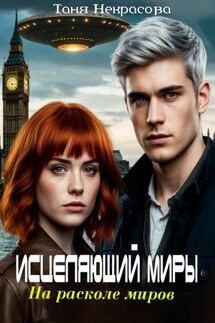Сестра гения. Путь жизни Марии Толстой - страница 2
Силуэт М. Н. Волконской.
Неизвестный художник.
Конец 1790‑х гг
У всех, кто знал мать, дети Толстые расспрашивали о ней. Им говорили, что она не была красавицей: мужские брови кустом, грубоватые черты и не слишком изящная походка – вперед всем корпусом, как ходят женщины на сносях. Может, потому и вышла замуж только к 32 годам, хотя состояние было немалое. Тетушки рассказывали Маше, что мать ее была золотое сердце, всем старалась помочь, много молилась, и за это Господь и послал ей долгожданную любовь. И она очень берегла ее. Наверное, с юности боялась, что ее выдадут за старика, просто чтобы выдать, но, к счастью, отец ее был хоть и строгий, но далеко не глупый. Рано оставшись вдовцом, он очень полюбил дочь – свою единственную, и не спешил, понимая, что с ее состоянием рано или поздно жених найдется. И оказался прав. Николай Ильич был подполковник, участник войны 1812 года и заграничных походов русских войск. Они оба любили поэзию, вели поэтические альбомы, а Мария Николаевна сама сочиняла стихи, чаще всего посвященные ее обожаемому мужу. Своего первенца Коко она хотела так воспитать, чтобы походил на отца не только именем, но и храбростью – за хорошее поведение давала ему подержать отцовскую саблю.
Маша знала, что мать все любили, и тоже хотела быть доброй и терпеливой, но получалось далеко не всегда. Ее, младшую, в семье баловали. Братья покрывали ее шалости, тетки и бабка Пелагея жалели сиротинушку и учили всему, что знали сами: молитвам, рукоделию, игре на фортепиано, играли с ней в бирюльки, раскладывали пасьянсы. Отец тоже был особенно нежен с ней – единственной девочкой. Она росла не то чтобы очень капризной, но с характером, могла вспылить или затаить обиду. Брат Левочка как-то признался, что в минуты грусти молится душе покойной маменьки, и тогда Маше тоже стало казаться, будто мать все видит с небес. Теперь после ссор или обид она уходила к себе, брала старые четки, молилась Богу, как ее учили тетушки, и с чувством шептала: «Боже, помилуй мя, маменька, простите мя».
М. Н. Толстая.
Дагерротип А. Я. Давиньона.
1840-е гг.
Отец редко бывал дома. После смерти жены он продолжал разъезжать по делам имений, подолгу пропадал на охоте, и дети ждали его появления как праздника. Перед обедом вся семья обычно собиралась в большой гостиной, где на стенах висели портреты предков, среди которых огромный черный и таинственный – женщины с четками и книгой. Портрет этот и притягивал, и пугал Машу, она подолгу разглядывала его, даже просила няню поставить ее на стул, чтобы лучше видеть. Это была ее прабабка по отцу – монахиня Афанасия. От самого этого имени, от старинных букв в книге, к которой была протянута рука женщины, от ее одежд и особенно от лежащего на столе черепа – веяло чем-то жутковатым и очень притягательным. Машу с детства манили рассказы странников, церковные истории о чудесах и подвигах святых. Она внимательно изучила портрет и порой, когда в гостиной менялся свет, ей казалось, что женщина в черном смотрит прямо на нее, словно что-то хочет ей сказать, позвать куда-то.