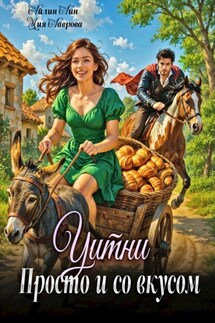Система философии. Том 1. Логика чистого познания - страница 39
Третий аспект порождает те виды суждения, которые требуются для механики и присоединяющихся к ней естественных наук. Мы называем их суждениями математического естествознания. Они также направляются фундаментальным значением, которое раскрывает познание происхождения в этом направлении. И здесь обнаружится характерная связь между этим классом и первым, а значит, между проблемой движения и проблемой мышления. Элементы чистого познания распределяются по этим трем классам.
Четвертому аспекту соответствуют те виды, которые касаются обработки и методологической разработки исследования согласно ступеням его развития. Однако при этом обнаружится точная связь между предпосылками познания и методологическими ступенями исследовательской работы, которая проливает новый свет на предыдущие аспекты и дает новые разъяснения, подтверждающие эти виды как критические суждения. Мы называем их суждениями методологии.
Первый класс: Суждения законов мышления
Первое суждение: Суждение о происхождении
Научное мышление начинает свою историю с понятия происхождения (Ursprung). Поэтому мы вправе переводить греческое слово «архэ» (ἀρχή) скорее как «происхождение», чем как «начало». Знаменательно, что Фалес, впервые сформулировавший идею происхождения, считается родоначальником исследования и философии. Только с этого момента сущее начинает становиться проблемой: возникает вопрос о его происхождении. До этого вопроса для человеческого взгляда существовали лишь отдельные вещи; лишь с вопросом о происхождении отдельные вещи вступают во взаимосвязь. Эта взаимосвязь и есть сущее в отличие от вещей (τὸ ὄν, τὰ ὄντα).
Подобно тому как наука связана с мифом, являясь продолжением его серьёзности через освобождение от субъективных моментов аффекта, так и в происхождении наука связана с мифом. Идея хаоса свидетельствует о том интересе, который космогонический миф проявлял к вопросу происхождения. И даже мозаичная Книга Бытия, стремясь удовлетворить интерес к происхождению через идею творения, всё же не может полностью его подавить: в «начале» (которое тоже лучше перевести как «происхождение») оно проглядывает. Хоть оно и ограничено временем, но даже в этой ограниченности сохраняет свою сфинксовую природу.
Слово Фалеса (или, возможно, уже Анаксимандра) со временем приобретало всё более абстрактное значение. У Фалеса вода была происхождением материи, а также происхождением самого понятия материи. У Анаксимандра же происхождением названо «бесконечное» (ἄπειρον). Так происхождение становится происхождением духовного бытия. И чем больше бытие обосновывается в мышлении, тем одностороннее становится использование происхождения для мышления. Так возникает то значение слова, которое в современном языке передаётся латинским термином «принцип» (principium). Однако через это одухотворение слова изначальный человеческий интерес к вопросу происхождения был скрыт и вытеснен. И науке предстоит вновь открыть его разными путями и в разных выражениях, вернув ему значимость. Эта новизна долгое время кажется столь странной, что старый вопрос не всегда сразу узнаётся в новом ответе.
Наибольший урон от этого приглушения фаустовского смысла вопроса в успокоении, которое даёт принцип, понесла логика. Интерес к происхождению в ней почти угас. А то, что от него осталось, было отнесено к метафизике. Но поскольку метафизика не порвала с идеей творения, она могла таким образом примириться с происхождением. Не лучше и не глубже было и тогда, когда ведущую роль играл пантеизм: и здесь целое в своей бесконечной величине подавляло малое начало. Да и вообще всеобщий бог и здесь представлял последнюю и первую основу бытия.