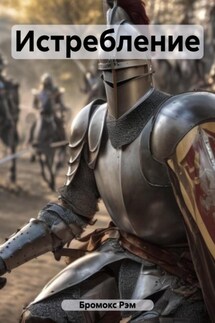Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 19
Только тогда это материалистическое и натуралистическое понимание истории раскрывается как упразднение истории. Ибо история как история людей и их деяний есть история духа и идей; в противном случае не было бы всемирной истории, а лишь естественная история.
Из всех этих рассуждений вытекает, что история, по своему понятию, не может быть предпосылкой этики; напротив, для своих основных понятий и проблем она предполагает этику; она не может осуществлять дальнейшее определение содержания этих понятий без руководства этики.
Как мы видели, улучшение понятия воли зависит от понятия нравственных идей и их отношения к теоретическим понятиям.
И только отсюда падает правильный свет на понятие индивида. Индивид – не единичность особенности; и он оставался бы таковым, даже если бы мыслился как единственный. Ибо сверхчеловек все равно должен быть возвращен в границы своего мильё. Об этом позаботится, несмотря на всякий культ героев, борьба мнений и идей.
И против такого исключительного положения сильного человека как раз и выступает теория мильё как мягкая реакция.
Теперь мы видим, однако, что противопоставление между индивидом и учреждениями – как материальными, так и идеальными – совершенно ложно и ошибочно.
Конечно, индивиды не растворяются в учреждениях и идеях; ибо идеи, как и сами учреждения, превосходят величайшую индивидуальность своей универсальностью. Тем не менее идеи, как они должны реализовываться в учреждениях, должны также воплощаться и порождаться в индивидах.
Итак, в конечном счете оказывается, что индивид есть не что иное, как индивид идеи.
Социология также не может быть поставлена в качестве предпосылки этики. Что касается понятия общества, то мы рассмотрим его подробнее далее. Здесь же следует обратить внимание лишь на методическую точку зрения, которой руководствуется наука об обществе.
Смысл выражения «общество» возник в противопоставлении твердым и кажущимся завершенным образованиям истории, таким как государство, и продолжает мыслиться в этом противопоставлении.
Динамическая точка зрения движения заменяет статику, которая заставляет государство и право казаться чем-то замкнутым, подобно природе.
Но этот плодотворный взгляд на движение приводит здесь к той же неясности, которая только что рассматривалась под другими названиями применительно к истории. Это касается понятия развития.
Поскольку точка зрения движения применяется к людям, движение должно быть специализировано в развитие. Ибо то, что движение означает для материальной точки, развитие должно осуществить для биологического индивида. И социальный индивид также рассматривается прежде всего как биологический. Подобно тому, как органическая история развития создает организм из клетки, социология стремится стать историей развития для так называемых ею социальных организмов. Из простейших низших элементов она пытается развить компактные, мощные, многосоставные образования культуры.
Мы сейчас не собираемся окончательно обсуждать методологическую ценность социологии; мы далеки от того, чтобы оспаривать её пользу. Однако её отношение к этике остается под вопросом, и мы считаем, что она не может служить предпосылкой для этики. Этому противоречит её основной методологический концепт – развитие.
История биологического развития предполагает точное знание готового организма. Эмбриология ориентируется не на общее, расплывчатое представление о нормальном организме, а на целостный организм и каждый его орган в их физиологической нормальности, которые составляют точный предмет исследования. Но существует ли аналог такого точного организма в социальном организме и его социальных органах? Не является ли это применение скорее метафорой, которая остаётся хромым сравнением?