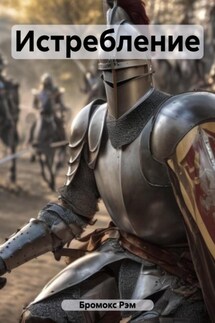Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 20
Уже отношение органов к организму здесь нарушается. Отдельные социальные институты можно, пожалуй, рассматривать как социальные органы, но называть их социальными организмами уже сомнительно. Ведь организм – это единство органов. Но где это единство в отдельных социальных институтах? И где существует единство для них всех, чтобы можно было перенести понятие организма на это единство целого? Разве государство образует это единство? Конечно, это было бы его задачей, но выполняет ли он её? И не возникает ли, именно потому что он её не выполняет, корректирующая точка зрения общества, чтобы скептицизм и нигилизм анархизма не получили распространения?
Таким образом, обнаруживается противоречие в задаче социологии, которое может быть устранено правильным определением её отношения к этике; без этого её проблема остаётся неопределённой и неточной. Социология движима мыслью, что культурные образования не являются замкнутыми субстанциями абсолютной ценности, и использует точку зрения развития, чтобы вскрыть грубые зачатки, из которых они произрастают. В целом это может казаться допустимым: самые дикие формы и правила спаривания, если они всё же являются правилами парования, могут рассматриваться как элементарные формы моногамии, и то же можно предположить о простейших установлениях наследственного права и собственности. Однако дальше общих, а потому неточных аналогий здесь продвинуться не удастся. Всегда придётся учитывать идеи и идеальные чувства, которые, хотя и тонко, но тем точнее отличают высшие ступени от низших, так что элементарное образование неизбежно усложняется.
Видно, что противоречие усиливается до двойственного. Исходят из того, чтобы отвергнуть готовое образование как замкнутое. Но этому противоречит научное понятие развития, которое, напротив, предполагает нормальное оформление организма в качестве методологической предпосылки. Однако здесь как раз ставится под сомнение и оспаривается такая нормальность, причём в двойном смысле нормы: как функциональная правильность и как образец и пример. Скорее, хотят показать, что якобы завершённые социальные образования нашей высокомерной культуры всё ещё находятся в зачаточном состоянии. Если в этом заключается благотворный смысл данного направления исследований, то оно должно осознать, что ему не хватает нормы, которую научная методология развития предполагает точно и ясно.
Поскольку социология, несмотря на эти методологические изъяны, работая с общими историческими точками зрения, даёт ясные результаты и просветляющие идеи, возникает двойное противоречие: второе пытается исправить первое. А именно, мысли и чувства, которые, как, например, в случае брака и собственности, влияют на более высокие позднейшие формы, уже неизбежно учитываются в низших формах, и тем самым всё же предполагается некий вид нормального образования, который становится предметом развития.
В этом предвосхищении корректируется не только методология социологии как методология развития, но и меняется вся её направленность. Она больше не может быть направлена против индивидов, чтобы растворить их в массах, ибо она нуждается и использует этих индивидов в их нравственных мыслях и чувствах. Или разве могут быть мысли и чувства без индивидов? Она также не может быть направлена против идей, чтобы заменить их институтами, ибо в самих этих институтах она уже заранее предполагает идеи. Она не может поддерживать противопоставление, а тем более противоречие между ними. Неверно, что идеи – это испарённые институты; скорее, институты – это застывшие идеи.