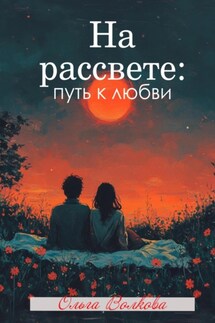Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 36
И если бы даже речь шла только о носителе, в котором сходятся все нити юридической сделки, субъект уже был бы незаменим; тем более, когда на самом деле в выдающихся случаях речь идёт о творце. Ведь право даже создаёт особые материальные затруднения для понятия субъекта права, признавая, например, раба человеком, но не личностью. А именно личность и составляет субъект права. Так очевидно, что право в строгом и точном смысле требует понятия субъекта права. И уже из этого примера видно, что именно действие является тем, из чего выводится субъект права и с чем он связывается.
Субъект права должен быть единством субъекта. Невозможно представить себе субъекта без единства. Можно допустить, что объекту недостаёт единства; но субъект и единство полностью совпадают. Теперь мы уже размышляли о том, как трудно психологии установить из чрезвычайного многообразия психических процессов единство сознания и в нём – единство субъекта. И всё же это – последняя забота этики. Не было бы ли это большим методологическим преимуществом, если бы этика для этой своей центральной проблемы не зависела исключительно от психологии и, в крайнем случае, ещё от теологии – для аномальности сознания греха, как от своего рода этической патологии; если бы она, напротив, для всей нормальности и аномальности могла выводить «Я» из единства субъекта права?
Но здесь как раз возникает серьёзное сомнение. Право, конечно, требует единства субъекта, и оно должно суметь провести его для всех юридических сделок; иначе понятие юридической сделки станет несостоятельным. Правовое действие нельзя разбить на части; и субъект права нельзя разделить на двух обладателей. Однако значительная и важная, но также основополагающая и эпохальная часть юридических сделок состоит в ассоциациях. Кто в этих объединениях, которые расходятся на многообразные правовые значения, кто в множествах, из которых состоит каждое из этих объединений, является единством субъекта? Не кажется ли, что единство здесь должно разрушиться; что «Я» превращается не только в патологическое двойное «Я», но, по-видимому, и в нормальное «Я» -долю? Может ли вообще собирательное «Я» соответствовать единству субъекта и удовлетворять его?
Здесь проявляется решающее значение, которое мы должны признать в связи этики с юриспруденцией. Мы с самого начала стремились понять корреляцию индивида и всеобщности как подлинную проблему этики. Поэтому этический субъект должен быть одновременно и всеобщностью, и индивидом. Человек этики не может считаться только индивидом. Так его может воспринимать религия, связывая его с внешним понятием. Если же этика, напротив, должна избегать любого чуждого её методологии понятия, чтобы найти понятие человека, то она с самого начала ориентирована на множественность, в которой человек повсюду себя проявляет.
Лишь кажется, что он – только индивид; если он им является и насколько им является, то только потому, что индивид – это скорее индивиды. Множественность нельзя от него отнять. Важно лишь, чтобы множественность не оставалась множественностью, то есть особенностью, но становилась всеобщностью. Где же в историческом мире людей есть пример такой всеобщности? Не приходится ли здесь обращаться к идее человечества? И нельзя ли даже считать удачей, что единство человеческого рода, хотя и ненавидимо расовой философией, всё же не отменено и не уничтожено? Но действительно ли нужно довольствоваться идеей человечества как примером, а не просто образом всеобщности?