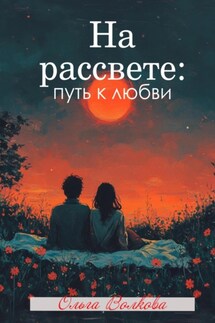Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 37
С древних времен понятие общности играло значительную роль во всем нравственном и религиозном мышлении. Общность (κοινωνία) – важное логическое понятие в учении Платона об идеях. И прежде чем религия стала церковью, она была собранием – общиной. Община молящихся и слушающих слово Божие была предшественницей церкви верующих. Таким образом, для религии общность заключена в понятии общины. Можно было бы предположить, что этика нашла бы подходящий пример всеобщности в этой общности верующей общины. Однако наши предыдущие размышления уже заставили нас усомниться в этом. Церковная общность несет в себе отпечаток особого союза. Именно это – дурной пример, которого этика должна избегать. И недавно одна юридическая книга с пугающей ясностью показала, к чему приводит, когда общность, направляемая библейскими цитатами, растворяется в структуре лишь относительных общностей. Такие относительные особые общности – не что иное, как частности. Из них никогда не может возникнуть всеобщность.
Напротив, юридические ассоциации указывают нам верный путь. Исторически они уже доказали свою нравственную миссию, которая еще далеко не завершена. Societas, конечно, изначально является товарищеским делом, но ее название отсылает к societas и socialitas человеческого рода. К ней примыкает братство (fraternitas), как гласит старое изречение римского права. И так societas в новое время не столько превратилась в общность (что примечательно, ибо это слово не было выбрано – communité было оставлено для административных образований), сколько общество (Gesellschaft) взяло на себя нравственное воспитание человечества – сначала в бурном ходе революции, а затем в медленном течении исторических эпох. Под лозунгом социальной идеи началась реформа государств. Однако ей предшествует и сопровождает ее юридическая методология и техника в понятии societas.
Этот важный момент нам предстоит подробно определить и прояснить. Здесь же достаточно указать на то, что в юридических ассоциациях любого рода участвуют множество, а порой и бесчисленное множество субъектов, которые принимают участие в правовых сделках и институтах. Может показаться, что в таком случае единство правового субъекта становится невозможным, даже как будто оно должно быть исключено, что, конечно, противоречило бы самому понятию права и правового действия. Напротив, оказывается, что именно на основе этой множественности возникает подлинное единство правового субъекта.
Кажущееся противоречие разрешается тем, что эта множественность – не множественность, а всеобщность. Всеобщность же не противоречит единству, а единичности, которая как раз и принадлежит множественности. Всеобщность сама есть высшее единство – такое, какое требует этика. Нравственный индивид не должен оставаться частной единичностью, но, охватывая всеобщность, в которую он включен, возвыситься до единства нравственного индивидуума.
Юридическое лицо обозначается как моральное лицо. Конечно, в этом слове выражается лишь неестественная реальность лиц. Однако поучительно, что понятие юридического лица появляется лишь поздно в развитии правоведения. Также признано, что его оформление в новом праве, выходя за пределы благочестивых установлений римского права, связано с современным развитием нравственности и, вероятно, этики. Не менее поучительно и то, что семья никогда не определяется как юридическое лицо, хотя она окружена всем нравственным ореолом. Неужели именно ее естественность отпугнула фикцию юридического лица?