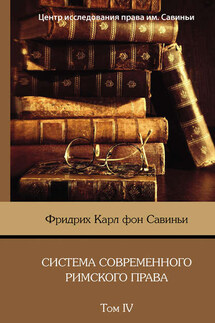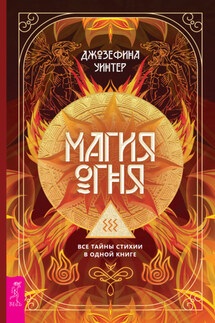Система современного римского права. Том IV - страница 48
К счастью, из того же труда Папиниана, на который здесь ссылается Ульпиан, у нас есть фрагмент, который служит не только для спасения высказанного принципа от кажущегося противоречия Папиниану, но и одновременно для придания ему более полной формы посредством необходимого уточняющего определения:
«de pecunia deposita, quam heres non attingit, usuras praestare non cogitur»[235].
В обоих фрагментах речь идет о pecuniaquam non attingit, только в первом незатрагиваемым лицом называют possessor hereditatis, а во втором – heres, и это высказывание, связанное с упоминанием pecuniadeposita, приводит прежде всего к тому, что данный фрагмент толкуют как говорящий об actio depositi против истинного наследника депозитария. И все же я полагаю, что это объяснение следует отвергнуть. Во всем фрагменте, из которого взята эта небольшая часть, говорится об ответчике в случае виндикации, а с ним можно, пожалуй, сопоставить ответчика в случае иска о наследстве, но не ответчика в случае actio depositi. Поэтому я считаю следующее объяснение более правильным[236]. Здесь «heres» означает «possessor hereditatis», вследствие чего оба фрагмента относятся к одному и тому же случаю. Pecuniadeposita – это денежная сумма, которую умерший предназначил не для расходования на домашнее хозяйство, не для дачи взаймы, а, напротив, для хранения наличными как деньги на «черный день»; такой случай упоминается в другом месте и обозначается совершенно схожим выражением «pecunia praesidii causa reposita» (или даже «seposita»)[237]. Подобные деньги мог хранить далее нетронутыми и владелец наследства, не уплачивая за это проценты, так как он лишь продолжает манеру обращения с этими деньгами, инициированную наследодателем. Если высказывание Папиниана, процитированное Ульпианом, истолковать как говорящее о таком совершенно особом случае, на что весьма четко указывает подобное выражение (non attingi), то вышеназванный принцип спасен от любого противоречия: ведь никто не усомнится в том, что подобное обращение полностью отвечает разумному управлению имуществом, и тогда освобождение от процессуальных процентов будет обосновываться тем, что упомянутые деньги на «черный день» вообще не будут приниматься во внимание как наличные деньги, предназначенные для оборота.
3. В случае исков о легатах или фидеикомиссах, заключающихся в наличных деньгах, проценты следует платить, равно как и возмещать прочие плоды, начиная с момента литисконтестации[238], и в этом заключается решительное признание принципа процессуальных процентов. Однако при этом мысленно всегда следует добавлять условие, что случайно уже раньше не была обоснована просрочка, потому что процессуальные проценты везде поглощаются пеней за просрочку.
Ведь то, что в случае легатов и фидеикомиссов сама по себе просрочка до возникновения любого правового спора обосновывает требование уплаты пени за просрочку, а также возмещения всех прочих плодов, не вызывает сомнений. Сначала это имело силу только в случае фидеикомиссов, затем – и в случае legatum sinendi modo, а в конце концов – и в случае damnationis и vindicationis legatum[239].
Фрагменты, в которых в качестве момента возникновения подобного обязательства называется то просрочка, то литисконтестация, нельзя понимать так, будто в отношении этой противоположности существовал спор или различие между древним и новым правом; напротив, просрочка была общим правилом, а литисконтестация часто помогала в тех отдельных случаях, в которых отсутствовали условия просрочки (§ 264). Зато оба выражения, не образуя настоящей противоположности, должны были составлять общую противоположность также возможному мнению, согласно которому плоды и проценты следовало бы рассчитывать начиная с момента