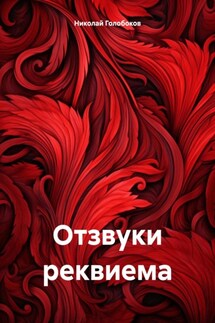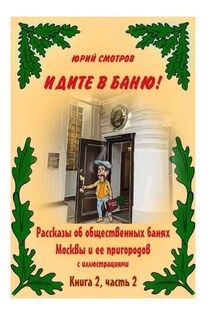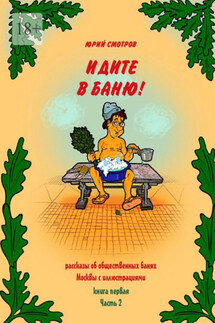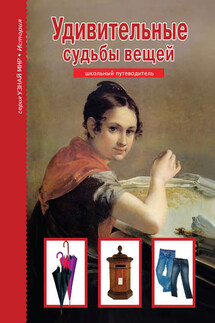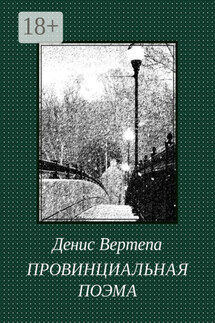Сказания о недосказанном - страница 71
… Взрослые, и дети, радовались, а негритёнок, – мама конечно финн, а папа, папа,– негр, а он, малыш,– весь в папу, смугленький, прикопчёный, но не северным холодным солнышком,– папеньки кровями,– африканскими лёжа у мамы на руках, двигал в ритм мелодии ножками, одетыми в тёплые шерстяные носочки, ритм нашей русской плясовой, своими маленькими ножками, заботливо укутанными от зимнего, северного холода. Вот тогда мы с дочерью поняли, что музыке не нужны знания языка, высоких званий и регалий, национальности – нужна любовь и мастерство, а она, музыка, есть или её нет.
Музыка интернациональна.
Так вот, Булат хорошо играл, аккомпонировал нам на ударных, в нашей комнате – кастрюля, табуретка, и как ксилофон, – бутыллофон – на пустых или полупустых бутылках, от пива или вина. Потом, позже мы, правда, видели на сцене таких музыкантов, с инструментом – Бутыллофон…
Аванес просто пел так, без сопровождения, как птица поёт.
Мы, мысленно уносились туда, в его Армению.
Вася Покат не пел, но верил нам, что мы молодцы. Он был детдомовский. Знал много городов, но Сибирь – матушку любил больше всего. Там было последнее его пребывание. Оттуда его и направили к нам в Абрамцево. Но лепил, головки натурщиков, класс… Так, что они, его работы были всегда номер один среди пятёрочных, на просмотрах, целой, как всегда коллегии, преподавателей, – московских художников.
И вот теперь все ребята уехали к себе домой. Я же рванул в Крым. Свой родной колхоз Красный Пахарь. И первое, что пришло в голову, а что тут можно нарисовать? И тем более написать этюд. С чего???
Голая степь. Где-то холмик. Далеко село Рашевка, там мостик и железная дорога.
Маленькие хатки – мазанки, глинобитные стены. Крыша, покрытая глиной, и травка, высохшая на ней, а в домике и потолка нет. Просто двухскатный потолок,– почти евроремонт – глина, кизяк коровий, извёстка и ещё балки видны на потолке.
Но мне – то нужен был пейзаж.
Единственный колодец – журавль, с холодной ключевой водичкой, натура, которая могла бы красоваться на листочке бумаги, и, конечно, пруд. Гребля, плотина – дамба, что бы воду удержать. А за прудиком, с карпами зеркальными, лужайка – толока. Далеко – далеко лесополоса, с акациями и маслинами. А в самой деревеньке деревьев почти нет.
Во время войны вырубили по приказу немцев, всё боялись фашисты кустов и деревьев, мерещились им всюду партизаны.
Прошли годы, деревьев так никто и не вырастил, даже фруктовых.
Толока…
Уж не знаю кто, как и почему, назвали эту полянку толока, которая была скорее лужайка, и, только травы на ней почти не было. Вытоптали её своими ножками малыши и те, которые уже повзрослее, играли в ручейки, третий лишний. Вот и получилось такое имя полянке. Выгорела она от солнышка, а выживала только вонючка, на которую, если в темноте и сядешь, долго не вытерпеть – запах, несусветная смердящая штучка, которая как у скунса, парализует и заставляет бежать, куда глаза глядят, и, ничего не видят…
И вот оно детство, ручейки, игра такая, как будто бальный танец. Кто кого за ручку подержал, что сказал.
Арбузятники.
Ночь. Темень. Никаких столбов и лампочек. Полночь. Домой идти не охота. Арбузы. В соседней деревне, на глинистом бугре, это даже не холмики, бугры. Пошли за арбузами. Разговаривать нельзя. Вдруг засада, такое тоже бывало. Страшно. А какая радость от страха. Пусть даже это и арбузы. Ах, вот оно, радость и наших деревенских девочек, которые тоже любят арбузы.