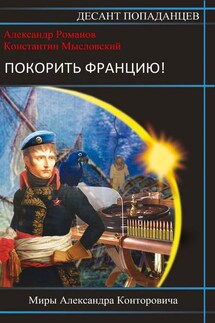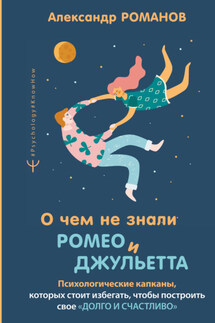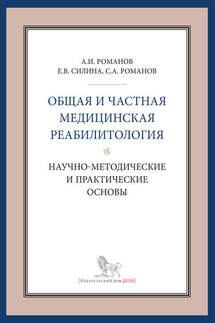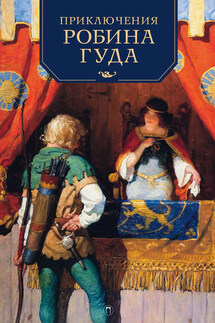Слово, равное судьбе. Избранные произведения в 3 томах. Том 1. Поэтическое лукошко - страница 2
Есть и весна, и осень: «Она стоит, облокотившись / На вересовый черенок. / И каждый звук и запах слышен, / И сладкий тянется дымок». Есть и замыкающий этот девичий венок образ бессмертной юности: «Девки, пойте, девки, пойте, / Я – старуха, да пою-у!..»
Из этого многолюдного, хороводного человеческого пейзажа вырастает, поднимаясь, если можно так высказаться, караваем души, удивительно вызревший у поэта образ матери. Он вбирает в себя и житейские приметы, но перерастает их, предстаёт в чистой духовности русской красоты, как в стихотворении «По рыжики не выбраться ли нам?..»:
Детство поэта пришлось на военное время, молодость – на оскудение русской деревни, память его – ближняя память – просквожена болью, утратами. Из спекшейся боли, грусти, тревоги выплавлял поэт своё чистое, светлое слово, в этом и сказался великий оптимизм его народного корня. Свет сквозь боль – образ озера на Карельском перешейке, на берегу которого пал его отец. Оно «темнело чашей вдовьих слёз / В своём взрывном покое».
Александра Романова – певца крестьянской, народной доли – можно угадать именно по таким концентрированным образным штрихам. Такова вспышка-штрих современности: «И машина шла напролом, / Светом фар в полях мельтеша, / Словно там металась огнём / Человеческая душа». Заметим, тут поэт не обобщает время, «не идёт на символы», а получается ёмко, потому что здесь концентрация духовного зрения поэта.
В этой связи хочется поделиться раздумьями и наблюдениями над работой современных поэтов из поколения Романова. Его сверстники во многом прошли – с боями – значительный литературный путь, заметим, надолго «удерживаясь» в звании молодых послевоенных поэтов. Сейчас, перевалив порог пятидесятилетия, имея имена хотя и в различной степени, но достаточно громкие, они неожиданно «разделились» на два разряда: уже сказавших всё своё и идущих в творчестве вслед самим себе и – резко пошедших на взлёт. Не надо много примеров. Достаточно вспомнить именно сегодня идущую к читателю поэму Валентина Сорокина «Бессмертный маршал». К какому же разряду принадлежит А. Романов? Мне кажется, что он ещё не сказал «всё своё», тому основанием заложенное в его поэзии хоровое, «хороводное» эпическое начало, живущая в его стихах собранная «окатистая речь» народная. Романов – один из далеко не многих, кто сумел остаться в своём слове современно русским, «беспримесным» по чистоте языка поэтом. Дело не только в естественном отборе слов, в противостоянии всяческой ломке речевого строя, завещанного ещё от «Слова о полку Игореве», а и в способности его стиха звучать всем звуковым богатством народной поэзии, её густой аллитерированности:
Густая, сочная речь! Почва её – песенная, «помнящая» былинные распевы, живая говором сегодняшнего дня.
Притом и укладывается она в стихи не «мерными рядами» строк, а как бы протекая прихотливо по естественному, бытийному руслу, с переменчивым размером строк, но с постоянством единого чувства-настроя.