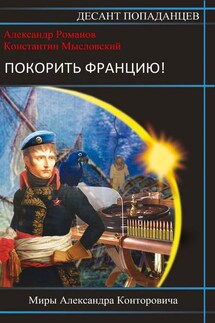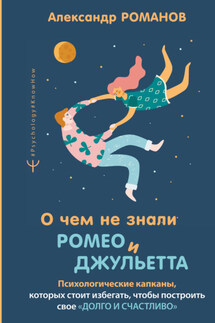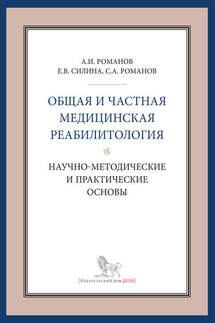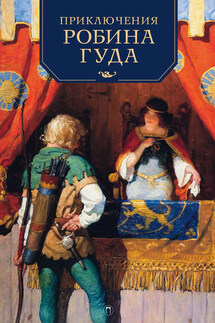Слово, равное судьбе. Избранные произведения в 3 томах. Том 1. Поэтическое лукошко - страница 3
Но это вовсе не значит, что А. Романов как-то разделяет письменную и устную культуру стиха, напротив, он, как все лучшие русские поэты его поколения, сращивает их, «пересаживает» классический стих на народную основу. В его стихотворениях встречаются формы, интонации, свидетельствующие о пройденной поэтом школе русской поэзии девятнадцатого, начала двадцатого, а то и восемнадцатого веков. Чем не «фетовские», не «тютчевские», скажем, эти строки:
Так поэт приобщается сам и приобщает современную поэзию к извечному несказанному духу народному. И это именно – не побоимся обвинения в «вульгарной социологии» – крестьянское отношение к быту как к красоте, духовности жизни, это крестьянский взгляд, крестьянское слово, прошедшее выучку письменной культуры и оставшееся самим собой, «огнеликой прялкой». Множеством строк, подобных этим, А. Романов заявляет о себе как о представителе подлинно новой, целостной культуры слова, развившейся и окрепшей в русской послевоенной поэзии. Стать им невозможно без сыновней верности, веры в свой род, в необходимое людям величие его призвания. Всё это у А. Романова есть.
И, однако, почему же остаётся впечатление определённой самозамкнутости поэзии А. Романова, почему мы сегодня застаём его в некоторой самоуспокоенности творческой? Ведь не исчерпал же он себя «хороводными» циклами, произведениями – данью памяти предков, словом об отце и матери, «собирательским» энтузиазмом хранителя родного? Сама ягодная россыпь его художнических находок говорит о неиспользованном богатстве его поэзии: «И две косы наперехват, / И в каждой вковано по песне…», «Столкнутся один на один / Грозы тёмно-синие тучи / И красные тучи рябин», «Что цветёшь, калина, поздно? / И о чём душе поёт / Этот взвитый многозвёздно / Над просёлками полёт?», «Предстанут белым клевером / Российские снега» – да, что ни штрих, то ягодка, что ни образ – загадка, частушка, аллегория, современный миф…
да «мифологический» штрих. А вот мысль у поэта он рождает бедноватую: «как непрочен наш покой». Чтобы это понять, не надо быть поэтом. У поэтов другая задача: упрочить жизнь. А. Романов участвует в решении этой задачи. Но, увы, не до конца. И вдруг понимаешь, почему: накопление им мастерства, художественных задач идёт у него именно «по ягодке». Есть в строках-образах выход в пространство мирообраза – хорошо, нет – и так сойдёт… Отсюда и встречающаяся чересполосицей однозначность, упрощённость поэтической мысли, замыкание на частных случаях. Поэтому поэмы фрагментарны, взгляд неохватист… Порой начнёт поэт широко: «Что красноводье поздняя брусника…», – в строке сразу и простор, и вид окрестный, и пора природы, и даже вкус позднего лета. Но широты хватило лишь на строку. Дальше – резкое сужение кругозора: