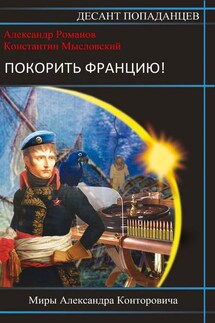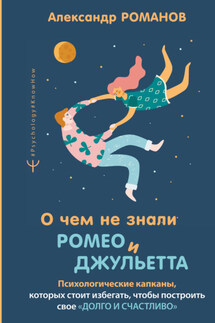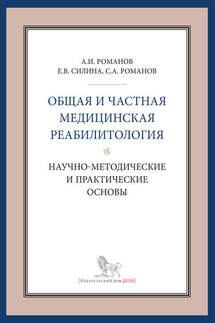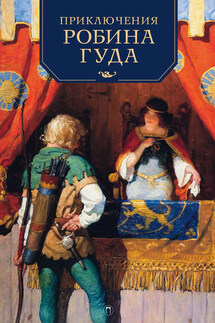Слово, равное судьбе. Избранные произведения в 3 томах. Том 1. Поэтическое лукошко - страница 4
Вот уже и нескладность («топлю корзину» – в чём? В бруснике – неточно, в красноводье – тогда в «нём»), и безвкусица («хочется в твои печали…»). Стихотворение, не успев начаться, сломалось. Даже жаль, что оно попало в избранное, хотя первая строка отменно хороша.
В этом же стихотворении есть строка: «И каждая-то ягодка прошепчет», – нет, не каждая становится достоянием поэзии. Конечно, у каждого поэта есть стихи сильнее, есть – слабее. И вовсе не хочется «уличать» А. Романова в том, что он где-то недоработал, недотянул. Моя забота – вместе с поэтом, в расчёте и на читательскую помощь – понять, что мешает талантливому русскому поэту. И открываешь: его строке, его замыслу, его речи не хватает не каких-то формальных искушённостей, а – простора, воздуха, владения великим законом искусства – перспективой. Той, что раздвигает дали, не даёт ослабеть чувству цели. Ни в коей мере не «сталкивая» двух дарований, поясню свою мысль примером из Н. Рубцова, ровесника младшего, земляка А. Романова. Вот рубцовский штрих:
Это органическое чувство простора есть у А. Романова, и оно движет его стихом, как, например, в строках о Енисее:
Но не всегда верен поэт этому «завету Енисея». Собою он, безусловно, является, но не всегда – всем собою. Это не упрёк, а призыв.
…Много горестного, тяжёлого, чёрного в судьбах людей и земли встречаем мы на страницах книг А. Романова, и все же нередко при их чтении возникает чувство, чеканно выраженное в есенинской строке: «Как прекрасна земля и на ней человек!» Мало у кого из современных поэтов есть такая естественная слиянность души и плоти людской с духом природы: это единение, наверно, и зовётся – земная натура. Как-то не поднимется рука приписать поэту «философию пантеизма», хотя такой термин по отношению к нему не был бы отступлением от истины: перед нами, скорее всего, веками бытия на родной земле выработанный, национальный, крестьянско-русский взгляд человека на то, что сегодня именуется «окружающей средой», но для героев поэта среда эта – часть их, они сами, их дом, срубленный из деревьев, которые могут и петь, и плакать смоляными слезами. Сокровеннейшая часть их жизни, исполненная добра, солнца, искромётного веселья, – всего, без чего не прожить человеку в суровом краю и суровом веке.
Вера в большом начинается у художника с веры в малом: образ должен убедить своей органичностью. А в этих строках настолько остро ощущаешь «поцелуй» пчелы, что столь непривычная метафора становится символом действительно обжигающей чистоты природы. Вот одно из самых покоряющих свойств мастерства А. Романова: умение открыть особый и целостный мир в частности, в штрихе бытия, облечённом в точный и имеющий символическое значение образ. Чаще всего – образ судьбы человеческой. И при всём этом поэт даёт нам понять, что эта судьба – натура – до конца не познаваема, как бы проста она ни была на первый взгляд.