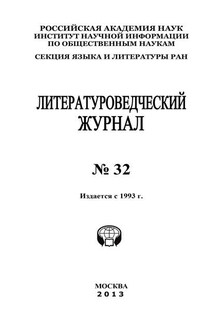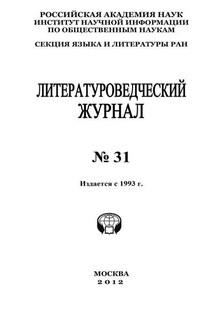Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. Взаимосвязи литератур России и США: Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов - страница 3
Как видим, уже в XVIII в. проявилась тенденция рассматривать романтическое как движение вертикальное (в отличие от позднейшего представления о реалистическом как движении горизонтальном).
Приводя описание китайских садов, Болотов сообщает: «Мастера их различают три разные рода сцен: веселые, страшные и волшебные. Последнего рода суть такие, какие у нас романтическими называются, и китайцы употребляют всякого рода хитрости, чтоб сделать только их такими, чтоб могли они приводить во внезапное удивление»[20].
Думается, что слово «романтический» не случайно появилось в русском языке в связи с описанием Америки и Англии 1780‐х годов. Американская революционная действительность 70–80‐х годов XVIII в. породила новые, романтические формы поэтического видения и выражения жизни[21].
2
Советское литературоведение уделяло проблеме романтизма особенно пристальное внимание. Были изданы фундаментальные исследования и учебные пособия, напечатано немало дискуссионных статей[22]. Эти работы позволили по-новому взглянуть на проблему типологии русского и американского романтизма, выделить некоторые аспекты национального своеобразия этого явления в России и США.
Лицо русского романтизма зрелой поры определяют три великих писателя – Пушкин, Лермонтов и Гоголь. Романтизм проявился в творчестве Тургенева и Достоевского. Изучение русского романтизма тем не менее сосредоточивается обычно на анализе произведений так называемых малых романтиков – А. Погорельского, М. Загоскина, О. Сомова, Н. Полевого, В. Одоевского, А. Бестужева-Марлинского, А. Вельтмана и других писателей, у которых романтизм предстает в привычных, традиционных формах. А если исследователи романтизма и обращаются к Пушкину и Гоголю, то по преимуществу к их раннему творчеству.
Период расцвета русского романтизма завершается, с одной стороны, «энциклопедией идей русского романтизма»[23] – романом Одоевского «Русские ночи» (1844), а с другой стороны, первым томом «Мертвых душ», выход которого в свет ознаменовал победу реализма. Чернышевский писал об авторе «Мертвых душ»: «Он пробудил в нас сознание о нас самих – вот его истинная заслуга» (3, 20), заложил основы национально-художественного самосознания, открыв реализм как глубинный метод русской литературы.
Вместе с тем «Мертвые души» не означали конец романтизма в русской литературе, ибо сами явились новым шагом в развитии романтического мировосприятия (вспомним хотя бы знаменитые лирические отступления). Если проследить историю русского романтизма начиная с «Элегии» (1802) Андрея Тургенева и баллад Жуковского, его подъем в эпоху декабризма и расцвет в 30‐е и в начале 40‐х годов, то в этой историко-литературной последовательности творчество Пушкина, Гоголя и Лермонтова оказывается важнейшим художественным итогом романтизма в России.
«Евгений Онегин» и «Пиковая дама», «Петербургские повести» и «Мертвые души», «Герой нашего времени» и оставшаяся незаконченной последняя лермонтовская повесть «Штосс» – таковы вершины русского романтизма, открывающие пока еще неясную «даль свободного романа». Вместе с тем они занимают важнейшее место и в истории возникновения русского реализма.
Противоречие ли это? Отнюдь нет, ибо в том и состоит величие «больших романтиков», что они поднялись выше художественного метода, в недрах которого складывалось их творчество. Если «Русские ночи» Одоевского или повести Бестужева-Марлинского как наиболее «типичные» явления романтизма исчерпали для себя художественные возможности метода и дальше не пошли, то Пушкин, Лермонтов и Гоголь на романтизме не остановились, а совершили, каждый по-своему, художественное открытие, выводящее их творчество за пределы романтизма, но не просто отвергая романтический метод, а развивая его по закону диалектического отрицания.