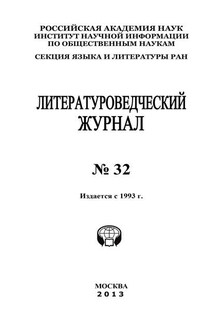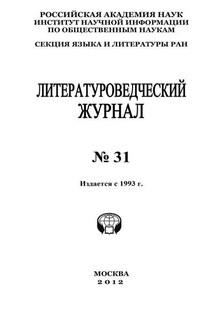Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. Взаимосвязи литератур России и США: Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов - страница 4
Еще Пушкин говорил, что писателя должно судить по законам, им самим над собой признанным, по эстетическим законам его эпохи, не пытаясь при этом проецировать последующее развитие литературы на предшественника, который не несет за все дальнейшее историческое развитие прямой ответственности. Нередко же случается так, что в наших суждениях о зрелом творчестве Пушкина и Гоголя определяющими оказываются эстетические категории и точки зрения последующих эпох литературного развития. При этом нарушается принцип историко-функционального подхода к литературе прошлого. Во времена Пушкина и даже в год выхода «Мертвых душ» все не было столь однозначно и ясно относительно судеб реализма в русской литературе, как то иной раз представляется в литературоведческих трудах.
Говоря о необходимости системного анализа литературы, М.Б. Храпченко отмечает, что во время крупных сдвигов в развитии литературы, например в период смены романтизма реализмом, многие выдающиеся писатели, в том числе Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Шевченко, Мицкевич, воплощают в своих произведениях принципы того и другого направлений, сохраняя, однако, несомненное внутреннее единство своего творчества. «Сочетание неоднородных художественных принципов в творчестве этих писателей не только не ведет к эклектике, но представляет собой то органичное по своему существу явление, которое составляет важнейший этап роста национальной литературы»[24].
Как известно, романтики высказывались за правдивое воспроизведение жизни, против условностей классицизма. Передовые писатели-романтики, еще не зная понятия реализма, в своей полемике с классицизмом объективно выдвигали те положения, мысли, догадки в защиту правдивого искусства, которые позднее высказывали реалисты. И романтики, и позднейшее поколение писателей-реалистов стремились к истинному отражению мира: романтики – обращаясь к чувствам человека, яркими красками живописуя сквозь них действительность; реалисты – перенося внимание на изображение человека и его окружения. У романтиков социальное подано через внутренний мир чувств и мыслей героя; у реалистов социальное становится доступно читателю благодаря картинам общественной и личной жизни, в которых объективируется герой. Различие между тем и другим заключается не в том, что социальный анализ является прерогативой реализма (как еще недавно утверждалось в иных трудах об исторических судьбах реализма), а в принципах художественного освоения социального опыта.
В чем же специфика художественного отражения и преломления социальной действительности в искусстве романтизма? Романтик всегда стремится дать изображение в каком-либо необычном, поэтическом ракурсе, чтобы тем ярче и глубже подчеркнуть сущность изображаемого. Когда Гоголь пишет: «…мириады карет валятся с мостов», он создает романтический гротеск. Невский проспект предстает у него в каком‐то обманном, «не в настоящем виде». Остранение, особый угол зрения на мир и создают возможность романтического видения. Таков мир всех романтиков – и русских, и американских.
В романтизме, как и в реализме, глубина социального анализа зависит прежде всего от глубины художественно-эстетической. Даже в частностях. Сравним изображение двух троек в русской литературе. Чеховский Ионыч, ожиревший и с одышкой, совершает выезд в город, где у него громадная врачебная практика. Реализм Чехова пронизывает все детали этого описания: «Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным: “Прррава держи!”, то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог».