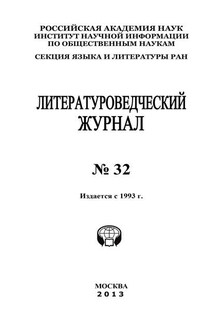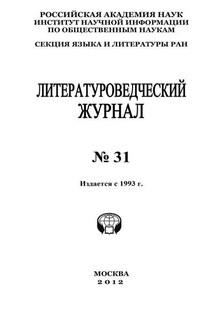Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. Взаимосвязи литератур России и США: Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов - страница 5
И вот другая, романтическая тройка, о которой говорится памятными с детства словами: «Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал?.. Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах?..». Романтические приметы гоголевской тройки выступают вполне очевидно, и вот уже перед нами целая поэма, в которой есть и Русь, и ее бойкий народ, и ее песни, и ее история… И кому под силу доказать, что социального начала, «социального анализа» здесь меньше или больше, чем у реалиста Чехова?
«Мертвые души» стоят на самом скрещении путей русского романтизма и реализма, и едва ли мы эстетически возвысим роман, если объявим его принадлежащим лишь к одному из этих творческих направлений[25]. Авторские раздумья об особенностях романтического и реалистического письма выплеснулись на страницы самой книги. Две художественные манеры предстают в авторском рассуждении (во второй главе) о том, как создаются художественные образы писателями-романтиками и реалистами: «Гораздо легче изображать характеры большого размера: там просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ – и портрет готов; но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем, как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей, – эти господа страшно трудны для портретов». Справедливости ради следует сказать, что Гоголь охотно прибегал как ко второму способу изображения героев, так и к первому. Реализм и романтизм были для писателя единым творческим началом, породившим поэму-роман «Мертвые души».
Действительно, «Мертвые души» – поэма в прозе и в то же время поэтический роман. В жанровом определении сталкиваются романтическое и реалистическое. И в письмах, и в самом тексте Гоголь попеременно называл свою книгу то «повестью, очень длинною», то поэмой, то романом, то чем‐то непохожим «ни на повесть, ни на роман» (11, 77). Писатель все время колебался в определении жанра своего произведения. Как известно, это сказалось и на отзывах Белинского. В рецензии на первое издание «Мертвых душ» он называет книгу поэмой, в рецензии на второе издание (1846) уже говорит: «…этот роман, почему‐то названный автором поэмою». Затем Белинский окончательно провозгласил «Мертвые души» социальным романом.
Сообщая Пушкину, что он начал писать «Мертвые души», Гоголь говорит, что в романе ему хочется показать всю Русь «хоть с одного боку». Не всесторонне, многогранно и полно, а именно «с одного боку». Что это – скромность молодого писателя или неуверенность в своих силах? Отнюдь нет. Перед нами определенный эстетический замысел, установка на заданный угол зрения (в дальнейшем в ходе работы над романом писатель отошел от этого принципа романтической эстетики).
Одна из сторон романтизма Гоголя в «Мертвых душах» – знаменитые лирические отступления, завершающиеся романтическим апофеозом Руси в последней главе. Пристальный анализ романтической природы отступлений мог бы выявить их внутреннюю связь с лирическими отступлениями в «Евгении Онегине», а с другой стороны, с отступлениями в романах Достоевского (например, о фантастическом петербургском утре в восьмой главе первой части «Подростка»).
В канун восстания декабристов в журнале «Сын Отечества», где печатались многие из будущих декабристов, появилась статья К.Ф. Рылеева «Несколько мыслей о поэзии», утверждавшая принципы романтизма. Она открывалась сопоставлением романтизма и классицизма – острейшей проблемой литературной жизни той поры: «Спор о романтической и классической поэзиях давно уже занимает всю просвещенную Европу, а недавно начался и у нас»