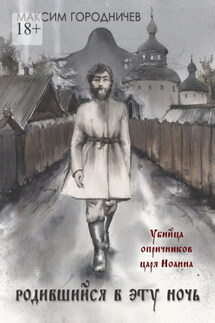Солянка, родная - страница 7
Родион свернул на узкую улочку, шум отдалился и вскоре сошел на нет, зато над головой по-прежнему открыточно-вульгарное небо, а под ногами торговля бойкая.
Продавщица с шеей торчком из армейской фуфайки сидела у лотков с овощами, выставив к дороге колени, и владела ей истеричная нота нетоварного вида дамы.
– На ценник смотрите, – отбрила она шмыгающего носом подростка, мысленно приставив кассовый аппарат к его голове.
– А где вы лук видите, раскупили, – ухмыльнулась она сердобольной бабке.
– Пшел отсюда, – пугнула она зашедшего со спины Виттория.
– Господа, – раскланялся бомж, дергая тощей, в жестких волосках, шеей, – окажите материальное содействие в качестве двух с полтиной, не дайте сгинуть бесследно. Вот прям так и сказал: «сгинуть бесследно». Чагин не дал. У самого не было.
Вскоре показался родной дом по улице Казакова – выщербленное годами типовое чистилище. Родион девался в подъезд, ноздри ожгло запахом мочи – в углу, под батареей вечно пустых почтовых ящиков, расползлась бензинного отлива лужа.
– Ну еб твою мать…
Чагин ткнул пальцем в прожженный пластик, вызывая лифт. Сетчатая шахта а-ля капроновый чулок задрожала, двери ушли в стену. Родион открыл решетку, шагнул меж резиновых губ. Долго полз вверх, взбираясь под самые небеса. Седьмой этаж, визитка Рапунцель, окурки на ступенях, замок. Единственная комната встретила хозяина занавеской и радиоприемником. И только втиснувшись в сорокаметровый куб своей квартиры, он понял, что устал за день, а голова забита свалившимися вдруг планами и показателями.
Лейтенант совлек с себя впитавшую холода куртку и положил кобуру на комод перед зеркалом. Пистолет его околдовал, вмиг сделав взрослее – такой маленький предмет, несущий смерть, дающий власть и над человеком, и над зверем. Это можно было сравнить с осязанием груди любимой женщины, и в то же время с осязанием груди Фемиды, чувством отнюдь не эротическим.
Переспевший душок сообщил о себе в области подмышек. Родион открыл дверь с косо приклеенным трафаретом писающего мальчика, сбросил трусы и встал под подсолнух смесителя. На правом боку синел кровоподтек.
Настроив воду, Чагин млел под холодной струей, остужая тело, а потом обливался кипятком, согревая душу. Выдавил из бутылочки горсть шампуня, сделал напор на максимум. Капли батогами по спине хлестали, зато вытерся мягким полотенцем.
Подошел к окну, попутно включив радио, уставился на циклопический город, дымящий трубами и гудящий поездами, где вот-вот хотели заняться архитектурным наследием, но пока не выгорало. А Марина Цветаева еще в 1911 году оплакивала домики старой Москвы. «Из переулочков скромных все исчезаете вы… Домики с знаком породы, С видом ее сторожей, Вас заменили уроды, – Грузные, в шесть этажей». С тех пор пила застройки стала куда зубастей, а вековечные старушки исчезли с лавочек, теперь там присаживались транзитные, неуместно спешащие каблучки.
Тумблер приемника долго шипел в поисках сигнала, перебирал невидимыми пальцами четки электроимпульсов. Наконец схватил что-то:
«Светлые кварталы и яркие огни
Все это наши танцы сказочной любви…» – полилось из динамика комариное. Чагин довернул ручку – голос окреп.
«И в город любви ты приглашай
Нежно прошу меня обнимай» – гомонил сальный приемник.
– Иди сюда, приглашаю тебя в город любви, – сказал Чагин голосу, но радио в один конец вещало. Он представил певицу, высокую, с ровной ахматовской челкой. Организм требовал подробностей, но получить их было негде. Ближайшим к парню существом был сосед-паук, устроивший ловчее гнездо под ножкой кровати. Лейтенант знал о незаконной застройке, и специально не смахивал паутину, какой-никакой, а сожитель.