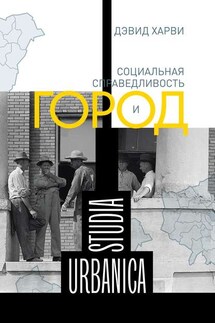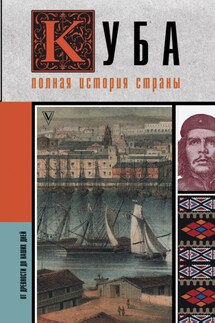Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений - страница 51
Далее, сведение опыта к «серии чистых и не связанных друг с другом моментов настоящего времени» предполагает, что «настоящее мира или материального означающего предстает перед субъектом в своей усиленной интенсивности, неся в себе таинственный заряд аффекта, в данном случае описанный в негативных категориях тревоги и потери реальности» [Jameson, 1984b, р. 120; Джеймисон, 2019, с. 129]. Образ, явление, зрелище могут быть пережиты с интенсивностью (с удовольствием или ужасом), которую делает возможной лишь их оценка как чистых и не соотнесенных друг с другом настоящих моментов во времени. Какое же значение имеет то, что мир утрачивает «свою глубину и грозит превратиться в глянцевую кожу стереоскопической иллюзии, в наплыв кинематографических изображений, лишенных всякой глубины» [Jameson, 1984b; Джеймисон, 2019, с. 137]? Непосредственность событий, сенсационность зрелища (политического, научного, военного наравне с развлекательным) становится тем материалом, из которого выковывается сознание.
Подобный разрыв темпорального порядка вещей также порождает своеобразное обращение с прошлым. Отказываясь от идеи прогресса, постмодернизм отвергает любое ощущение исторической преемственности и памяти, одновременно развивая невероятную способность «грабить» историю и втягивать в себя все, что он обнаруживает в ней, в качестве некоего аспекта настоящего. Например, постмодернистская архитектура совершенно эклектично берет отдельные куски и фрагменты из прошлого и произвольно смешивает их вместе (см. главу 4). Еще один пример, уже из сферы живописи, приводится в работе Дугласа Кримпа [Crimp, 1983, р. 44–45]. Моделью для «Олимпии» Эдуарда Мане, одной из судьбоносных картин раннего модернистского движения, была «Венера» Тициана. Однако манера этого моделирования сигнализировала об осознанном разрыве между модерном (modernity) и традицией и об активном вмешательстве художника в этот переход [Clark, 1985]. Роберт Раушенберг, один из пионеров постмодернистского движения, использовал образы «Венеры с зеркалом» Веласкеса и «Венеры перед зеркалом» Рубенса в серии своих картин 1960-х годов. Однако он использует эти образы совершенно иным способом, просто накладывая с помощью шелкографии фотографический оригинал на поверхность, содержащую всевозможные иные элементы (грузовики, вертолеты, автомобильные ключи). Раушенберг просто воспроизводит, тогда как Мане производит, и именно этот ход, утверждает Кримп, «заставляет нас рассматривать Раушенберга как постмодерниста». Здесь уже можно обойтись без модернистской «ауры» художника как производителя. «Фикция создающего субъекта уступает откровенному изъятию, цитированию, отрывку, накоплению и повторению уже существующих образов».
Этот тип смещения с мощными последствиями переносится и в другие сферы. В условиях исчезновения любого ощущения исторической преемственности и памяти и отказа от метанарративов единственная роль, остающаяся, например, для историка, заключается в том, чтобы, как настаивал Фуко, стать археологом прошлого, подбирающим его остатки, как это делает в своей прозе Борхес, и выставляющим их один за другим в музее современного знания. Рорти, атакуя идею, согласно которой философия вообще может рассчитывать на установление некой постоянной эпистемологической рамки для своего вопрошания, аналогичным образом приходит к следующему утверждению: единственная роль философа посреди какофонии накладывающихся друг на друга дискурсов, составляющих собой культуру, – «открыто порицать само понятие обладания взглядом, в то же время избегая иметь взгляд относительно обладания взглядом» [Rorty, 1979, р. 371; Рорти, 1997, с. 274]. «Принципиальной метафорой художественной литературы», сообщают нам ее постмодернистские авторы, является «техника, требующая подозрения к вере в той же степени, что и к неверию» [McHale, 1987, р. 27–33]. Постмодернизм предпринимает мало явных попыток поддерживать непрерывность ценностей, верований или даже безверий.