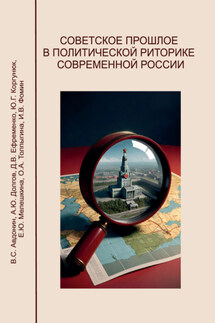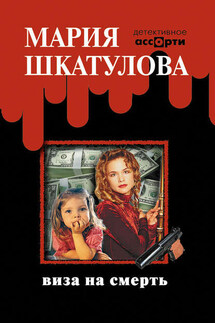Советское прошлое в политической риторике современной России - страница 8
Для учета воздействия контекста на представления о советском наследии использовался критический интерпретативный подход, базирующийся на трех допущениях. Первое заключается в особом значении условий (политических, социокультурных, дискурсивных), при которых социальная память «имеет значение», превращается в «общественное дело» [Brown, 2008; Campbell, 2008]. Это заставляет рассматривать социальную память как феномен относительный, понимаемый в терминах «взаимодействия разнообразных интересов и точек зрения» [Olick, 2007, p. 187–188].
Второе допущение состоит в том, что интерпретация и понимание недавнего прошлого (особенно наследия коммунизма) – предмет интереса в большей степени профессиональных исследователей, политиков и общественных деятелей, нежели рядовых граждан. Поэтому важно понять, как во взаимодействии между обычными людьми и малыми группами создаются, циркулируют и распространяются индивидуальные и коллективные смыслы. Поэтому исследование социальной памяти предполагает учет «состязательности» [Connolly, 1993] социальных и политических категорий, являющихся источниками дискуссий и морализаторства и имеющих разное значение для разных людей.
Третье допущение заключается в том, что исследование социальных феноменов предполагает признание напряжения между формальной, систематической идеологией и «живой» ее формой, представляющей собой совокупность повседневных практик создания и интерпретации смыслов [Ideological dilemmas, 1988]. Социальная память не только отражает или выражает «закрытую систему для разговоров о мире», но и артикулирует «противоположные темы, которые дают основу для дискуссии, аргументации и дилеммы» [Ideological dilemmas, 1988, p. 6]. Эти дискуссии и аргументы во многом определяют особенности создания, циркулирования и воспроизведения в обществе индивидуальных и социальных смыслов [Billig, 1996]. Поэтому исследование политической и социальной памяти предполагает изучение противоречий и совместного влияния формальных и «живых» (на уровне здравого смысла) представлений и форм знания [Andrews, 2007; Trust and…, 2004].
Принимая во внимание эти допущения, авторы монографии стремились отразить многообразие форм, задач и смыслового наполнения использования советского прошлого на различных уровнях жизни российского общества. Анализу подвергались как сам контекст (символическое и институциональное наследие, специфика политического режима и т. д.), влияющий на политику памяти и ее восприятие гражданами, так и символическая деятельность различных мнемонических акторов. Мы исходили из того, что повестку дня и в целом специфику дискуссий формируют не только находящиеся у власти политические силы, но и другие акторы. Однако в условиях ограниченной конкуренции и монополии на информацию, как в случае с Россией, провластные политические силы во многом определяют господствующий политический дискурс, формируя дозволенные для официальной оппозиции рамки символической «конкуренции». В тоже время официальная «оппозиция», разворачивая в этих рамках собственные нарративы, предлагает варианты трактовок настоящего и прошлого, которые также вносят вклад в формирование повестки дня и характера дискурса, а также потенциально могут быть альтернативой нынешнему официальному дискурсу и иметь риторический потенциал преодоления прошлого советского и имперского наследия.