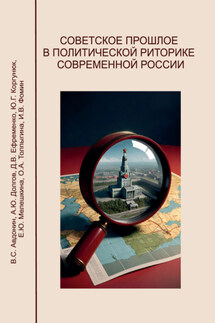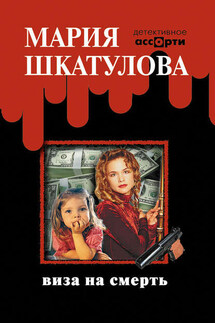Советское прошлое в политической риторике современной России - страница 7
При этом медиа и память нельзя отделить друг от друга: медиа «усиливают, искажают, расширяют, подменяют память» и «изначально формируют наши личные воспоминания, оправдывая термин “опосредование”» [Van, 2007, p. 16].
Кроме того, медиа – это не просто технически опосредованные режимы хранения или архивирования воспоминаний. Они являются «живым» форматом функционирования и «отражают суггестивный характер переживания событий прошлого» [Зубанова, 2020].
Сближение памяти, медиа и коллективной травмы в общих исследовательских рамках открывает доступ к объемному полю феноменов и процессов и заставляет по-новому взглянуть на традиционные способы изучения восприятия прошлого. В контексте стремительного развития медиатехнологий понятие ностальгии также получает новые исследовательские описания [Niemeyer, Keightley, 2020; Kalinina, 2017; Kalinina, Menke, 2016; Lizardi, 2015]. Ностальгия активно распространяется и перевоплощается через медиа, выполняя при этом свои устоявшиеся функции, пытаясь «превратить историческое время в мифологическое пространство» [Бойм, 2013].
Таким образом, площадки, где встречаются индивидуальные и коллективные памяти о прошлом, где конструируются и распространяются образы прошлого, становятся более сложными и разнообразными. Их особенности влияют на процесс и эффекты использования прошлого для конструирования национальной идентичности.
4. Методологические основания исследования нарративов о советском прошлом, межпартийной дискуссии и образа советского прошлого в сознании граждан
Особенностью данного исследования является то, что в нем предпринята попытка рассмотреть феномен функционирования нарративов советского прошлого в текущей политике в самых разных аспектах и с самых разных сторон.
В частности, речь идет об охвате трех основных уровней (пластов) существования памяти о советском прошлом и ее использования: 1) в политической риторике на официальном и публичном уровне; 2) в межпартийной дискуссии, ведущейся во многом спонтанно, импровизационно и полемически заостренно и ориентированной на целевую аудиторию в лице потенциальных избирателей; 3) в сознании рядовых россиян – для того, чтобы понять, каким образом взаимодействуют эти три уровня.
При анализе дискурсов представителей органов власти и политических партий мы прежде всего опирались на категории, выработанные в рамках дискурс-исторического подхода.
Задача состояла в том, чтобы определить, в контексте каких макросемантических единиц (тем) и дискурсивных стратегий [Reisigl, Wodak, 2001, p. 44–46] представители органов власти и исследуемые партии задействуют отсылки к советскому прошлому.
При этом внимание акцентировалось на дискурсивных стратегиях двух видов: референциальных (дискурсивное конструирование социальных акторов, объектов, явлений, событий, процессов и действий через различные способы их именования) и предикации (атрибутирование позитивных или негативных характеристик социальным акторам, объектам, явлениям, событиям, процессам и действиям).
Таким образом искался ответ на вопрос о том, какие нарративы о советском прошлом используются в дискурсе исследуемых политических акторов и каких целей они позволяют достигать.
Мы исходили из того, что на специфику дискурсивных стратегий и нарративов влияют политический контекст и риторическая ситуация, поскольку участники коллективной делиберации взаимодействуют в пространстве политических суждений вне зависимости от того, являются ли они субъектами или объектами аргументации. Как отмечал Г.И. Мусихин, «контекст аргументации задается как формально зафиксированной регламентацией, так и неформальными ожиданиями аудитории, в основе которых могут лежать устойчивые культурные традиции и ситуативное стечение обстоятельств» [Мусихин, 2016, с. 78]. И, добавим от себя, неформальные правила политической игры.