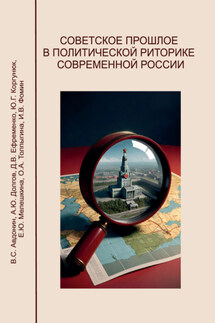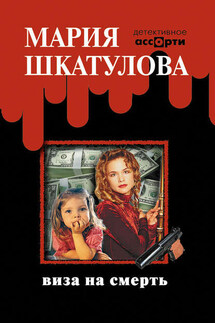Советское прошлое в политической риторике современной России - страница 5
По сути, метанарративы идеократических режимов – не просто редуцированные идеологемы, но целый механизм их трансляции в повседневную реальность и репрезентации имеющих конституирующее значение для режима норм и ценностей при помощи определенного набора символических средств (язык, визуализация, физическое окружение, ритуалы). Метанарратив в известном смысле облегчает приспособление индивида к таким признакам идеократии, как неопределенность фактов и ловушка порочного круга, «по которому движутся все объяснения» [Геллнер, 2004, с. 161]. Одновременно идеократический метанарратив выступает средством экспликации континуума «прошлое – будущее», тем самым вбирая в себя исторические нарративы и лежащие в их основе смыслопорождающие мифы.
Предпосылкой формирования такого рода метанарративов является функционирование политических систем, ориентированных на достижение высокой степени политико-идеологического контроля над общественным мнением либо на его подмену директивными идеологическими установками. В рамках этой модели социальная коммуникация и общественные дебаты не могут в полном объеме выполнять функцию развития национального самосознания и формирования новых фреймов для интерпретации политических проблем. Формируемый и насаждаемый сверху метанарратив заполняет вакуум, возникающий при ограничении общественных дебатов. Но оборотной стороной этого процесса становится пагубность для целостности и устойчивости метанарратива даже относительно свободной и продолжительной публичной дискуссии – в случае, если режим в силу тех или иных обстоятельств решается ее допустить. Иными словами, в условиях даже частичной либерализации метанарратив оказывается очень уязвим, и эта уязвимость не ограничивается идеологической сферой, распространяясь на всю политическую систему.
В идеократических метанарративах тем или иным образом комбинируются элементы, относящиеся и к идеологии, и к культурной традиции (иногда практически заново сконструированной в политических целях), и к ценностным предпочтениям. Разрушение метанарратива означает невозможность сохранения его целостности, отмирание многих составляющих, но – во многих случаях – выживание других компонентов, которые могут сохранять свое значение для тех или иных типов идентичности и, постепенно трансформируясь, передаваться от поколения к поколению. Эти компоненты могут использоваться (и используются) в политических целях. На постсоветском пространстве такие практики получили широкое распространение в России (особенно с начала 2000-х годов), Донецкой и Луганской народных республиках (до их вступления в состав РФ в сентябре 2022 г.), Белоруссии и Приднестровье, где использование компонентов советского метанарратива принимает иногда весьма причудливые формы [Voronovici, 2019].
3. Роль ностальгии и травмирующих событий при апелляции к прошлому в условиях «коннективного поворота»
Во многом такое использование элементов идеократического метанарратива базируется на широко изучаемом в последнее время феномене ностальгии, которая используется мнемоническими акторами для создания образов прошлого[6].
В качестве одной из важных характеристик ностальгии исследователи выделяют ее селективность, предполагающую обращение лишь к отдельным положительным фрагментам действительности. С помощью объединения их в одну картинку создается «позитивная, прекрасная история о прошлом (“память минус боль”), которого никогда в таком виде не существовало» [Velikonja, 2009, p. 161]. Иными словами, основными чертами ностальгического дискурса являются комплиментарность и эпизодичность создаваемого образа прошлого [Velikonja, 2008, p. 28]. Такие особенности ностальгического образа прошлого вполне объяснимы тем, что контуры коллективной памяти определяются прагматической рефлексией «лидеров памяти» или мнемонических акторов, которые используют созданные на основе фрагментарного восприятия действительности образы для завоевания общественной поддержки. Отдельные фрагменты (социальная защищенность, стабильность, успехи в культуре и спорте и т. д.) извлекаются из контекста и соединяются между собой в позитивный образ без учета этого контекста. Прагматическими соображениями и отсутствием отсылок к контексту объясняются и другие особенности ностальгии – вневременность и экстерриториальность [Velikonja, 2008, p. 28]. Поскольку ностальгические образы формируют конкретные «мнемонические акторы», действующие в конкретных условиях, в том числе в условиях конфликта интересов, ностальгия по прошлому отличается также многозначностью и наличием конфликтных нарративов [Velikonja, 2008, p. 28]. Похожим способом характеризуются и антиностальгические образы.