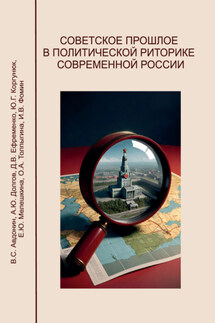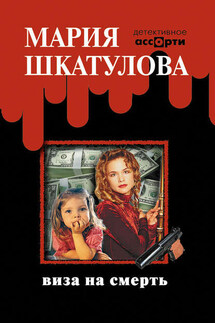Советское прошлое в политической риторике современной России - страница 6
Ностальгические воспоминания о прошлом далеко не всегда свидетельствуют о желании это прошлое вернуть. В то же время их носители с помощью ностальгических образов могут стремиться наполнить современный мир позитивными элементами прошлого [Todorova, 2009]. Подобные запросы особенно актуализируются под влиянием быстрых изменений в период социально-политических трансформаций. Причем они свойственны людям разных поколений, в том числе молодежи, не имеющей личного опыта жизни в определенном периоде прошлого.
Помимо ностальгических воспоминаний использованию прошлого в качестве инструмента конструирования настоящего способствуют воспоминания о травмирующих событиях прошлого. В последние десятилетия, по замечанию А. Пинчевского, дискуссии о памяти идут в основном в двух направлениях: с одной стороны, возрастает интерес к опосредованной памяти, то есть «различным формам, с помощью которых память формируется и распространяется посредством медиатехнологий»; с другой – существует неугасающий интерес к травматической памяти [Pinchevski, 2011, p. 253]. Понятие травмы остается востребованным и в социальных исследованиях.
Социологический взгляд на травму, в отличие от психологического, демонстрирует, что события, какими бы драматичными и ужасными они ни были, сами по себе не травмируют. Статус травмирующих они приобретают после того, как общество или его отдельные группы припишут им соответствующие смыслы [Александер, 2012]. Существуют даже специальные мнемонические акторы, гражданская активность которых направлена на формирование нового нарратива памяти и уникального репертуара коммеморативных практик вокруг травмы [Gutman, 2017]. Речь идет о мемори-активизме, который в российском контексте является негосударственным актором, создающим и транслирующим альтернативный дискурс о «трудном» советском прошлом, в первую очередь о периоде репрессий. Порой мемори-активисты создают нарративы о травмирующих событиях прошлого, противоречащие официальной трактовке, что в некоторых политических условиях не только формирует основы для конкуренции на символическом поле, но и влечет за собой применение насильственных мер в отношении организаций мемори-активизма в целях контроля и ограничения этой конкуренции
Таким образом, травма конструируется, она не статична и сопровождается противоборством социальных групп и продвигаемых ими смыслов. Конечно же, в качестве инструмента в этом противоборстве широко используются медиатехнологии[7], которые не только позволяют создавать и хранить индивидуальные «опосредованные» («медиализованные)» воспоминания[8] в письмах, дневниках, фотографиях, видеозаписях, но благодаря всеохватной цифровизации и широкому доступу к Сети выводят их на публичный уровень, где индивидуальное встречается, взаимодействует и конфликтует с коллективным [Van, 2007, p. 1].
Изучение влияния этого процесса на трансформацию памяти и появление новых способов ее описания обозначено в исследованиях как «коннективный поворот» (connective turn) [Hoskins, 2011a; Hoskins, 2011b], под которым понимается «резкий рост количества, повсеместное распространение и моментальность цифровых медиа, коммуникационных сетей и архивов» [Hoskins, 2018]. Этот поворот, отмечает Э. Хоскинс, приводит к онтологическому сдвигу в понимании того, что такое память и как она действует. Он перестраивает память, освобождая ее от традиционных границ – архивов, организаций, институтов, привязанных к определенному пространству. Он открывает новые способы работы с прошлым, «одновременно лишает свободы и освобождает активное человеческое запоминание и забывание» [Hoskins, 2018].