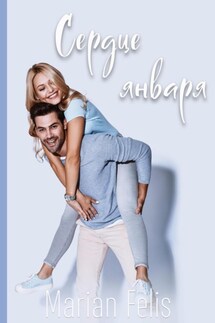«Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского - страница 4
Носителями просвещения были дворяне, обосновавшиеся в столицах. При этом надо сказать (и это очень серьезно), что дворянство потеряло (за редким исключением) религиозный контакт с народом, хотя христианство в те годы еще обладало большой просветительской силой. Но дворянское поверхностное вольтерьянство не привело к подлинному росту культуры.
А христианство – это европейская религия, резко отделившая Россию от степной – языческой и мусульманской – Азии. Однако так сложилась русская история, что священники были, по сути, выведены за пределы того общества, которое могло оказывать влияние на судьбу страны. Еще Пушкин писал о русском «азиатском невежестве», которое в высшем обществе преодолевалось после Петра Великого европейским просвещением, говорил о глубокой думе, с какой иноверцы глядят на «крест, эту хоругвь Европы и просвещения»[8], но при этом понимал, что священники оторваны от образованности высшего общества, а потому не могут воспитывать нацию: «Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностию. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии»[9]. Для Пушкина незнание иностранных языков означало отсутствие необходимых контактов с европейской культурой. Указ Петра Великого 1708 г. запрещал посвящать в священники и дьяконы, принимать в подьячие священнослужительских детей, которые не учились в школах. Великий преобразователь требовал просвещения во всех слоях, которые имели возможность и необходимость для вхождения в книжную культуру. Но именно поэтому духовное сословие постепенно оказалось вторым эшелоном русского просветительства. Медленно, ибо бедность мешает просвещению. И шаг за шагом, не очень заметно для общества, движение к образованию усиливалось. В конце XVIII столетия – первой трети XIX столетия священники оценили свое семинарское обучение, которое выводило их из низшего сословия. Как пишет современный исследователь: «Лишь очень немногим удавалось добиться должности священника – самое большое, на что могли рассчитывать неимущие служители религиозного культа, по своему экономическому и юридическому положению сливавшиеся с разночинцами. <…> Шансы повышались у тех, кто получал семинарское образование. Но такая возможность появлялась очень редко и ещё реже попадавшие в семинарию могли благополучно окончить курс. Однако постоянная материальная нужда, незнатность происхождения, отсутствие привилегий вырабатывали характерную для разночинцев жизненную стойкость, трезвое отношение к жизни. <…> Из поколения в поколение переходила выковываемая в постоянной борьбе за существование воля, привычка полагаться только на себя, упорное стремление улучшить свою жизнь. Это отчётливо проглядывает в настойчивых попытках сельских священнослужителей дать своим детям семинарское образование»[10].
Существенно, что учебная программа русской семинарии позволяла получить образование если и не университетское, то все же развивавшее и ум, и кругозор семинариста. Что же входило в эту программу? Немало! Российская и латинская грамматика, арифметика, священная и всеобщая история, география. Особое внимание уделялось латинскому языку: в высших классах на латыни (до 1840 г.) преподавались основные курсы – философия и богословие. Изучались также основы российской и латинской поэзии, а из языков – греческий и французский. Образование было серьезное. Конечно, прежде всего, богословское. Напомню, что именно бурсак философ Хома Брут распознал в панночке ведьму. Гоголевский «Вий» уже вводит в литературу семинариста как главного героя. Мы часто судим о русских православных семинариях по «Очеркам бурсы» Н.Г. Помяловского, где нарисовано полнейшее безобразие учеников и учителей. Понятно, что такое можно написать, только пройдя годы в этом заведении. Но, как мы знаем, учеба в бурсе не помешала Помяловскому стать замечательным писателем. Дело в том, что в семинариях, как и везде, многое зависело как от программы, так и от ученика, который эту программу усваивал или не усваивал. Можно назвать немало российских сочинений, где школьные годы автора описаны зло и с тоской (хотя бы пансион, где учился Аркадий Долгорукий в «Подростке» Достоевского, «Гимназисты» Гарина-Михайловского, «Кондуит» Кассиля). Но мы знаем блистательных деятелей русской культуры, вышедших из семинарии.