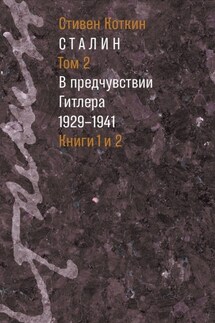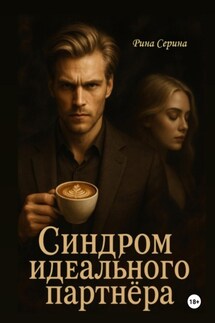Сталин. Том 2. В предчувствии Гитлера. 1929–1941. Книги 1 и 2 - страница 70
Зависимость Советского Союза от дорогостоящих краткосрочных кредитов – по большей части единственных доступных коммунистическому режиму – вызывала неустанную необходимость в погашении долгов при наступлении сроков платежа и получении новых займов. За 1929–1931 годы советский внешний долг более чем удвоился (в одном только 1931 году он вырос на 50 %), и в западной печати ходили слухи о грядущем дефолте. (В те годы дефолт объявили Турция и многие страны Латинской Америки [537].) 6 октября 1931 года британский поверенный в делах в Москве писал в Лондон, что жестокий кризис советского платежного баланса вкупе с неспособностью выполнить плановые задания на 1931 год даже вынудят Москву отказаться от ускоренной индустриализации и коллективизации [538]. Надежды надеждами, но ухудшение условий торговли и ситуации с тарифами действительно вынудили советское правительство ограничить импорт потребительских товаров и даже средств производства [539]. Тем не менее оно скрупулезно платило по своим долгам. Необходимость делать это частично объясняет продолжение экспорта зерна, несмотря на тревожные прогнозы по урожаю и низкие мировые цены [540]. Одни только лишения, навязанные народу государством, позволили СССР избежать внешнего дефолта.
Борьба с кулацким саботажем
По сравнению с хорошим урожаем 1930 года, который официально оценивался в 83,5 миллиона тонн, но в реальности составлял скорее 73–77 миллионов, урожай 1931 года дал где-то от 57 до 65 миллионов тонн зерна. Это грозило сокращением хлебного экспорта, но Сталин не стал делать расчетов и продолжал метать молнии по поводу «либерализма» сельских функционеров, неспособных искоренить «кулаков» [541]. Кроме того, он поощрял ужесточение гонений на веру и разрушение церквей [542]. Тем не менее он с неохотой согласился на небольшое снижение планов по хлебозаготовкам для Поволжья, Урала, Сибири и Казахстана, в наибольшей степени пораженных засухой, не пожелав сокращать планы для Украины и даже повысив их для Северного Кавказа (эти регионы засуха в основном не затронула) [543]. 31 октября 1931 года Микоян заявил на пленуме ЦК, что накануне жатвы «мы ожидали сезона хлебозаготовок с самыми радужными надеждами» [544]. Региональные партийные боссы, получив слово, говорили правду: засуха и скверный урожай делали невозможным выполнение даже сниженных планов. Сталин, который выходил из себя, когда должностные лица ссылались на естественные причины как на оправдания, взорвался, саркастически высмеяв «дотошность», с которой один из ораторов приводил данные о плохом урожае [545]. И все же диктатор согласился провести отдельное заседание с участием делегатов пленума из хлебопроизводящих регионов, которое завершилось дополнительным снижением планов по хлебозаготовкам [546].
Хлеборобы отказывались поставлять режиму по установленным им издевательски низким ценам даже то, что им удалось собрать: в 1931 году рыночная цена центнера ржи составляла 61 рубль 53 копейки, в то время как государство платило 5 рублей 50 копеек; для пшеницы это расхождение было еще более сильным