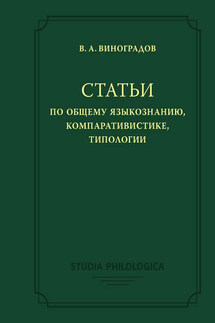Статьи по общему языкознанию, компаративистике, типологии - страница 11
§ 4. Типы сингармонических тенденций и фонологическая структура языка
1. Если использование или неиспользование сингармонизма как словесного акцента регулируется морфологическими особенностями языка, то выбор конкретного сингармонического типа определенным образом соотносится с структурными закономерностями строения фонологической системы. Материал тюркских и урало-алтайских языков отражает сосуществование двух сингармонических тенденций – тембровой и лабиальной. Последняя играет подчиненную роль и вообще встречается только при тембровом сингармонизме, покоящемся на признаке тональности (по терминологии Якобсона). Примечательное исключение составляет марийский язык, где признак бемольности играет роль основного просодического квантора, что обусловлено наличием гиперфонемной ситуации в вокалической парадигматике с ее нестабильным элементом (ə), альтернационно связанным с (е, о, ö) и реализующим групповое отличие данных фонем от (i, а, u, ü). Именно последняя группа, характеризуясь большей четкостью синтагматических контрастов, становится парадигматической базой сингармонизма, и признак бемольности, по которому упорядочивается данная группа, выдвигается в качестве основного просодического квантора слова.
Выбор конкретного дифференциального признака для этой роли непосредственно связан с характером иерархии дифференциальных признаков, система которых может рассматриваться как результат расщепления первичного треугольника Якобсона, включающего признаки тональности и компактности. При прочих равных условиях, признаку, входящему в первичный треугольник, отдается предпочтение при выборе основания сингармонизации. Вместе с тем нельзя не заметить, что языки, обладающие минимумом вокалического разнообразия, характеризуются отсутствием сингармонизма. Следовательно, для установления сингармонизма необходимо наличие градации или варьирования по некоторому признаку, что мы и наблюдаем в «туранских» языках, имеющих расчлененную систему тембровых корреляций. Но здесь может возникнуть вполне обоснованный вопрос, почему из двух «первичных» признаков – тональности и компактности – эти языки используют первый и не используют второй, который является основным просодическим квантором в сингармонических языках Северной Сибири и Западной Африки. В качестве примера можно привести нанайский язык, сингармонизм которого описан В. А. Аврориным [Аврорин 1958], и язык ибо, описывавшийся неоднократно многими лингвистами.
2. В нанайском языке вокалическая система представляет две ступени, противопоставленные по степени раствора:
Своеобразие этого сингармонизма состоит в том, что он физически реализуется двояко: на вокалическом контуре слова – как компактностная ковариация, на консонантном – как диезная. Согласные в «широком слове» (огласовка II) имеют более веляризованные варианты, а в «узком слове» (огласовка I) – более палатализованные. Этот факт говорит о тесной связи между признаками звучности и признаками тембра, образующими первичный треугольник. Диезность и бемольность как вторичные тембровые признаки стали морфонологически использоваться для реализации признака компактности.
Несколько сложнее обстоит дело в африканских языках. Схемы сингармонизма, приводимые П. Ладефогедом для тви, фанти, игбира, йоруба, идома и ибо, построены на признаке напряженности [Ladefoged 1964: 36–39]. Сам автор не настаивает на данной меризматической трактовке африканского сингармонизма, и приводимые им результаты формантного анализа вокализма ибо обнаруживают четкое различение гласных по степени компактности и по тональности. Субстанциональная схема вокализма ибо по признаку компактности обладает пустой клеткой: (