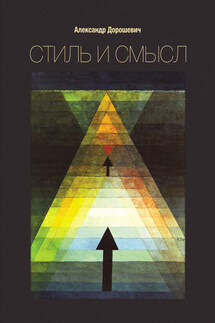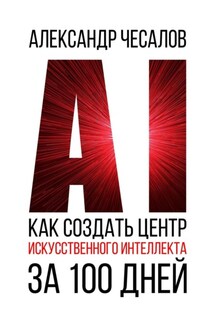Стиль и смысл. Кино, театр, литература - страница 29
«Уот» (роман, законченный в 1945 году, опубликованный в 1953) – следующий шаг на пути отказа от реальности. В центре романа – обреченная на неудачу попытка героя рациональным об разом постичь иррациональное. Иронически обыгрываемой философ ской подкладкой становится здесь логический позитивизм, утверж дающий, что для человека пределы мира ограничены пределами его языка. Уот, проведя некоторое время в качестве слуги в доме мистера Нота, так и остался в полном неведении относительно своего хозяина и его дома, подобно тому как герой Кафки так и не смог проникнуть в Замок.
Собственно, само искусство для Беккета – невыполнимая по пытка средствами разума проникнуть в область иррационального, а предмет его исследования, тоже самим автором обреченного на неудачу, – иррациональная чистая сущность человеческого сущест вования, которому, как считает Беккет, нельзя найти рационального оправдания, так как сущность эта, по логике, является Ничем.
Но как бы опровержением этому является фигура фантастиче ского героя-повествователя последних романов, физически дегра дировавшего изгоя, который как бы одновременно существует и не существует, ибо все упоминавшиеся в трилогии его ипостаси: Моллой, Моран, Малон, Макманн, Махуд и другие – оказываются лишь плодом фантазии этого чисто картезианского страдающего сознания, которое в финале трилогии, в романе «Невызываемый», выступает как нечто не имеющее определенного телесного оформления: то это какое-то яйцеобразное тело, то голова, торчащая из урны (символ бытия между рождением и смертью).
Герой этот неуклонно деградирует: он теряет свой велосипед[39], ему отказывают ноги, под конец ему приходится ползти («Моллой»), он лежит и умирает («Малон умирает»), голос его продолжает звучать в темноте и за гранью смерти («Неназываемый»). Больные и калеки в романах Беккета обязаны своим плачевным состоянием не какому-то мифическому «антигуманизму» автора, а метафорически воплощен ному утверждению Декарта о делимости тела и неделимости сознания. Тело распадается, а поток слов, которые служат для доказательства тождественности личности самой себе, не иссякает. Личность становится чем-то вроде иррациональной десятичной дроби, стремящейся к недостижимому пределу. Пределом этим является Ничто, но он не достижим, подобно пределу бесконечной математической функции. Остается вечное ожидание, заполненное словами, когда существует уже только один голос, повествующий о «муке быть».
Если, с одной стороны, в мире Беккета господствует неодолимое тяготение к полной неподвижности, небытию и молчанию (на языке науки это называется энтропией), то, с другой, – все-таки существует нечто (в романе «Моллой» мы встречаем пародирующий Канта термин «гипотетический императив»), заставляющее продолжать существовать, несмотря на постоянное приближение к полному исчезновению. Таким «гипотетическим императивом» оказывается так и не приходящий Годо, который заставляет двух бродяг, Владимира и Эстрагона, терпеливо дожидаться его (пьеса «В ожидании Годо»). Только он, этот «гипотетический императив», нечто вроде надежды на не существующего бога, является для Беккета единственным объяснением того, что в лишенной всякого другого смысла абсурдной все ленной может продолжаться жизнь.
Беккет создает в романах фантастическую картину фантазирующего «подпольного» сознания, своего рода миф о создании мифа. И с каждым новым произведением он все глубже уходит в намеренно избранный им тупик, ибо сам закрывает себе путь к действительности, солидаризуясь с выводом безымянного русского «парадоксалиста»: «Конец концов, господа: лучше ничего не делать! Лучше сознательная инерция! Итак, да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких усло виях, в каких я вижу его, не хочу им быть».