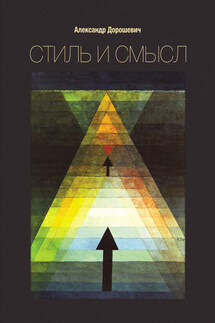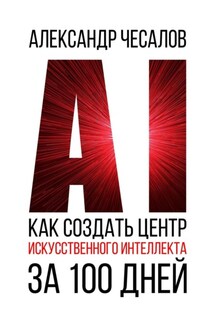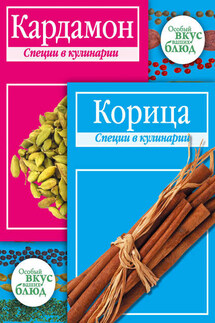Стиль и смысл. Кино, театр, литература - страница 34
Тем не менее, значительная часть кинематографа всегда строилась совсем по другому принципу. Вненаходимая точка зрения как активная ценностная авторская позиция задавалась как бы заранее, внелично, а именно – жанровыми условностями. Жанр изначально устанавливает используемые мотивы, повороты сюжета, ценностную иерархию персонажей. Действие жанрового фильма происходит в уже предуготованных эстетических рамках, оставляя простор развитию сюжета. Однако стоит слегка иронично пересказать сюжет жанрового фильма, как он начинает казаться чем-то весьма примитивным. Это говорит лишь о том, что познавательно-этический момент в жанровом фильме сведен к минимуму, главное в нем – осуществление вариаций внутри заданных жанровых границ.
Сопереживание герою в жанровом фильме обусловлено не вхождением в его кругозор, а в чисто эстетической (заданной правилами жанра) любви к нему. О разном характере сопереживания в максимально реалистически жизнеподобном фильме и фильме жанровом можно судить по следующему примеру. Предположим, что в детской аудитории показывается документальный фильм и фильм игровой. Как известно, зрители-дети часто готовы броситься на помощь герою, который не обладает всей полнотой знания внеположного ему зрителя, обладающего всей истиной, которая герою часто недоступна. Вряд ли ребенок кинется на спасение героя документального фильма в случае грозящей ему (герою) опасности. Но он сделает это по отношению к герою фильма игрового, жанрового в том числе, поскольку здесь более определенно обозначено его место как зрителя по отношению к эстетически завершенному материалу.
«Завершенность» – главное определение, которое можно применить ко всему миру жанрового фильма. Завершена в нем ситуация, строго следующая канону, завершенным, как правило, является его пространственный контекст, складывающийся в строго определенный мир фильма. Рамка кадра, подобно рамке жанра, превращает все внутри нее в значащий контекст, где устанавливаются свои связи и детали приобретают уже не преходящее, контекстуальное, а внефильмовое, символическое значение.
В вестернах, детективах, триллерах, мелодрамах, мюзиклах – везде парадигма возможных событийных ситуаций так или иначе ограничена. Главное здесь – сам процесс преодоления героем заданного сюжетом конфликта. И хотя настрой зрителя (на чувства в мелодраме, на напряженное переживание «саспенса» в триллере и т. д.) задан заранее, в классическом жанровом фильме эта заданность зрителем не ощущается. Герой воспринимается либо как свободная личность, преодолевающая внешние преграды (если это вестерн, мюзикл или триллер), либо, наоборот, как пассивная жертва свалившихся на него несчастий (если это фильм ужасов).
Герой оформлен внешними средствами не как индивидуальный характер, а как функция. Отнимите у жанрового фильма события, ведущие его во времени, музыку, его обрамляющую, эмоциональный эффект каждой конкретной экранной сцены, изначально заданную эстетическую ценность героя, и герой этот останется совершенно пуст. Подобная манипуляция, разумеется, чисто условна, но чем менее вероятной она кажется, тем более действенен жанр, тем более незаметно противоположение избыточного, эстетически формирующего авторского видения формально ограниченному жанром контексту героя.
Здесь-то и кроется мифотворческая сила кинематографа, объективного по своей видимости изображения действительности, сливающего на уровне чистого изображения точки зрения и, соответственно, контексты автора и героев. И хотя авторский контекст, авторское поле зрения завершает, окружает со всех сторон контекст героев, кажется, что и тот, и другой контексты, и та, и другая точка зрения лежат в одном поле, изоморфны друг другу. А ведь что такое миф, как не ощущение единого и единственного взгляда на мир, лишенного какой-либо корректирующей точки зрения с другого уровня, нарушающей мифологическую тождественность.