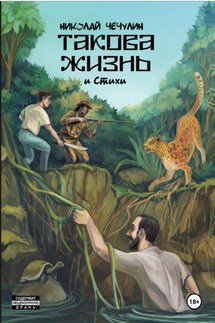Такова жизнь - страница 2
Поговорив ещё о запоздалой весне, она добавила, что, идя в вагон, словно знала, что непременно должна будет совершенно незнакомому человеку рассказать о своей жизни. В пожилом возрасте люди иногда могут подолгу разговаривать о чем-то для себя важном, если вдруг встретят благодарного слушателя. А расставаясь, с сожалением сетуют на то, что судьба их больше не сведёт. Повествованием о своих переживаниях рассказчик как бы невидимыми нитями связывает себя с этим случайным собеседником, оставаясь надолго в памяти его.
– До революции в России вся наша семья жила в Тверской губернии. Отец был поляк с немецкими корнями, и звали его Зигфрид. Мама была русская, образованная и интеллигентная, но, тем не менее, была волевой и руководила семьёй. Звали маму Елена, а папа звал её Еля. Отец был из бедной польской семьи, но благодаря своему трудолюбию и упорству из мелкого служащего стал довольно удачливым промышленником, и мы жили безбедно. Тогда я говорила по-русски так же хорошо, как и по-польски сейчас. И думала, что я буду всегда россиянкой и жизнь моя никогда не изменится, будет такой же, как у всех наших предков, как у мамы, тети, в этой бескрайней, белоликой стране. Но шестьдесят лет я уже не в России, и жизнь в Польше попортила мою родную речь, а кто я теперь – и сама не знаю.
Тогда, в конце семнадцатого года, отец сказал, что надо всё бросать и уезжать из России. В семье поселился страх, и мы не понимали, что с нами будет. Всё что можно было продать, мы продали, станки были никому не нужны. Отца и раньше беспокоили власти. Как только совершилась революция – может, из-за его происхождения или ещё по какой причине, я не знаю, – его начали преследовать и комиссары. Он очень расстраивался, и уехал во Львов под Рождество, предполагая устроить там дела и вызвать всех нас. Я, честно сказать, тогда не совсем понимала, почему происходит эта революция, и нам не хотелось менять нашу налаженную жизнь. Мы боялись людей с оружием на улицах, которые вряд ли могли сделать что-то хорошее.
Между тем от отца не было вестей. Только в конце марта следующего года мы получили от него письмо. Он писал, что у него все хорошо и что он приехать не сможет и нам надо самим выезжать во Львов. В конце мая, уже по высохшим дорогам, из Твери мы отправились в Москву. В Москве мы с трудом купили билеты на запад и сели в поезд, набитый людьми и багажом. Выехали не по расписанию, а с большой задержкой, к тому же поезд часто останавливался на станциях и подолгу стоял. Уезжая из России, я испытывала противоречивые чувства. Мне было жаль расставаться с родными местами моего детства. Ещё больше я не хотела оставлять здесь мою любовь, Фёдора Молина, от которого ждала письма. Нас сопровождали разные неудобства, и всё больше нарастала тревога из-за того, о чём говорили люди: прежняя жизнь уже больше не вернётся. С другой стороны, мне очень хотелось увидеть родные места моего отца, о которых он много рассказывал.
Наконец мы прибыли во Львов, и нас встретил отец. Он был сильно похудевший, и в глазах его не было радости. Жить мы стали на бедной окраине города, на немощёных улицах, и постепенно становилось понятно, что того сытного, беззаботного, дорогого российского неба больше не будет. У отца постоянного дела не было, он часто уезжал на несколько дней, приезжал расстроенным и говорил много о политике. Наша жизнь ещё больше изменилась в конце 1920 года, когда отец неожиданно умер от сердечного приступа. Мне был двадцать один год. Сразу вся наша семья распалась. Старший брат со своей женой и двумя детьми решил уехать в Краков, где он собирался воспользоваться связями отца, чтобы попытаться возродить его текстильное дело. Мама осталась в стареньком доме с моей младшей сестрой.