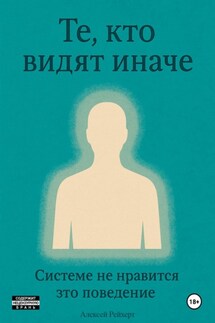Те, кто видят иначе. Системе не нравится это поведение - страница 6
Некоторые всё-таки пробуют. Жить «как все». Принять правила, говорить правильно, отключить лишнюю эмпатию, приглушить интуицию, предать интуитивное «нет» ради социокультурного «надо». Они становятся как будто «в порядке». Работают, зарабатывают, создают что-то вменяемое. Иногда даже выглядят счастливыми. Но внутри – пустота. Ощущение фальши. Тонкий тлеющий стыд за то, что когда-то сдался. И тело это чувствует. Оно мстит – бессонницей, аллергией на «рабочую атмосферу», паническими атаками в метро. Оно кричит, когда сознание решает молчать. Потому что даже если ты интеллектуально принял «правила игры», твоя психофизиология всё ещё в курсе, что игра – не твоя. А другие – те, кто не сдался, но и не смог встроиться – уходят в изгнание. Не всегда физическое. Чаще – внутреннее. Это странное полуживое состояние, когда ты существуешь в мире, как в витрине, и наблюдаешь его через стекло. Ты – здесь, но не с ними. Ты – жив, но не в той частоте. Многие не вывозят. Они превращаются в тех самых «отбитых». С приветом. С зависимостями. С эпизодами. С шизанутыми убеждениями, маниакальными проектами, разрушенными отношениями. Но суть не в этом. Суть в том, что многие из них – это просто те, кому не хватило безопасного пространства быть собой. Не хватило честного контакта. Принятия без диагноза. Того самого зеркала, в котором бы не сказали: «Ты больной», а сказали: «Ты другой – и это не угроза».
И ещё одно: далеко не все «не такие» становятся зависимыми или уставшими. Некоторые – наоборот. Их инаковость трансформируется в харизму, в проекты, в безумную работоспособность. Но это другая крайность. Часто – гиперкомпенсация. Нейроотчаянная попытка доказать, что ты имеешь право быть, раз уж не имеешь права просто быть собой. Внешне – триумф. Внутри – выживание на высокой скорости. В любом случае, это не патология. Это реакция. Тело, психика, нервная система – всё это живые системы, а не абстрактные «механизмы». И если ты чувствуешь себя странно – скорее всего, это не потому, что ты сломан. А потому что всё вокруг тебя игнорирует глубину, в которой ты живёшь.
То, что кажется обществу «странностью», в психологии чаще всего имеет название: реактивные паттерны, вызванные травматическим или длительным стрессовым воздействием среды. Это может быть не одна острая травма, а хроническое пребывание в контексте, где твоё «я» подвергается постоянной микровалидации – обесцениванию, игнорированию, наказанию за искренность или даже просто за нестандартное восприятие. В таком случае включаются глубинные защитные механизмы. Человек может:
– диссоциировать (частично "отключаться" от реальности, чтобы не чувствовать её давление);
– развивать адаптивный нарциссизм (яркий фасад, компенсирующий внутреннюю уязвимость);
– формировать комплекс выученной беспомощности (не действует, потому что "всё равно не получится");
– уходить в зависимые формы регуляции (еда, вещества, стимулы, адреналин, игры – всё, что даёт хоть какое-то чувство контроля или кайфа);
– или, наоборот, стремиться к гиперфункциональности – маниакальной продуктивности, чтобы доказать, что он «не ошибка».
И тут мы подходим к нейрофизиологии. Мозг человека, находящегося в хронической социальной небезопасности, меняет свою архитектуру. Повышается активность миндалины – центра страха и угрозы, при этом ослабляется связь с префронтальной корой – зоной, отвечающей за рациональное мышление, планирование и эмпатию. Это значит, что мир начинает восприниматься как угроза, даже когда её нет – и не потому, что человек "параноик", а потому что его мозг вынужден работать на выживание, а не на развитие. В детстве такие люди часто сталкиваются с концепцией