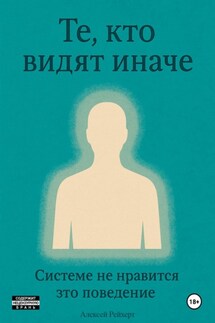Те, кто видят иначе. Системе не нравится это поведение - страница 4
Всё это – формы социального отвержения, завёрнутые в заботливые формулы. И каждый раз, когда ты слышишь эти фразы, внутри запускается знакомый процесс: “раз они не видят – значит, со мной что-то не так”. И ты снова откатываешься в сценарий самоподавления. Молчи. Не смотри. Притворяйся. Улыбайся. Проблема не в том, что ты не такой. А в том, что ты слишком настоящий в мире, который боится настоящести. И не просто боится – он её изгоняет. Потому что подлинное – это нестабильно. Это не поддаётся прогнозу. Оно не продаётся, не вписывается в KPI, не работает по скрипту. Настоящее – всегда риск. Поэтому его выжигают, зачищают, приучают к стыду. И ты начинаешь жить на разломе: между собой – и тем, каким надо быть. Ты не просто чувствуешь «я другой». Ты существуешь на фоне чужого сценария, как баг в программе, которую никто не собирается переписывать. И вот ты здесь. С этим знанием. С этим опытом. С этой невозможностью быть не собой – и невозможностью быть собой без последствий.
Когда ты не такой, как принято, тебя редко спрашивают: «А что ты видишь, чего не видим мы?»
Скорее – тебе скажут: «У тебя, наверное, что-то не в порядке». Общество – как крупная корпорация с жёсткой иерархией. Ему невыгодны элементы, нарушающие внутреннюю логику. Стандарт – это не просто усреднение. Это способ управления. Стандартизированный человек легко прогнозируется, легко замещается, легко адаптируется к системе – как винтик. А если винтик вдруг начинает думать, зачем вообще эта машина существует – это сбой. И этот сбой надо либо устранить, либо объяснить в категориях поломки.
Почему проще патологизировать
Потому что признать инаковость как ценность – значит признать ограниченность своей картины мира. А это больно. Это угрожает самоидентичности большинства. Ведь если то, что ты годами считал «странным», «слишком», «ненормальным» – вдруг оказывается альтернативной нормой, глубиной, другим способом быть – то, кто тогда ты? Легче сказать: «Ты – нарушенный», чем: «Я – ограниченный».
В психологии это называется защитным механизмом. Более точно – проективная идентификация: ты проецируешь на другого то, что не способен выдержать в себе. Так мир, который не хочет меняться, превращает инаковость в диагноз. Невротик, истероид, аутистичный, диссоциированный, травмированный, «не проработанный» – словарь богатый, обволакивающе-унизительный, удобный. Всё, что выходит за привычное – должно быть возвращено обратно в границы контроля. Или – изолировано. А ещё – это экономически выгодно. Система строится на предсказуемости: человек должен покупать, работать, воспроизводить и не мешать. Устойчивое потребление не любит нестабильного сознания. А нестабильное – это не всегда «плохо». Это может быть просто другое. Глубже. Острее. Медленнее. Более чувствительное. Но в логике рынка это уже «неэффективно». А значит – патологично. И вот ты с твоим неформатным мышлением, твоим отвращением к офисной рутине, твоей невозможностью соблюдать идиотские корпоративные ритуалы – становишься объектом психоанализа, но не слушания.
Так работает культура нормализации: всё, что нельзя обернуть в социальную функцию – подлежит исправлению. Медицина. Психотерапия. Образование. Даже духовные практики. Все они всё чаще не про освобождение – а про адаптацию. Не про контакт с подлинным «я» – а про смиренное «будь как надо». Только теперь это звучит гуманно. С эмпатией. С NLP и майндфулнесом. Но с тем же посылом: исправься, чтобы быть удобным. Вот почему настоящая инаковость – опасна. Она не хочет «встраиваться». Она не ищет диагноза. Она не просит разрешения. Она живёт – как может, как чувствует, как дышит. И этим уже разрушает порядок. Потому что где появляется альтернатива – там рушится монополия.