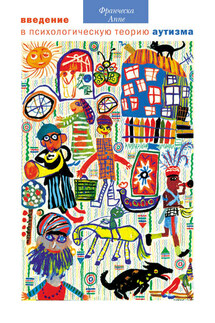Тем более что жизнь короткая такая… - страница 11
Не стану утверждать, что сразу понял, в чём тут дело, но недоумение возникло тотчас: для чего Синявский отказывается от коротких энергичных слов, которые так уместны в темпе его стремительного репортажа? Кому не ясно, что означает «аут»? Ведь пока произнесёт Синявский: «Мяч вышел за боковую линию», – игрок уже успеет вбросить этот мяч! А кто не знает, что «корнер» – это угловой удар?
Но уяснил я себе, в чём дело, довольно быстро и никого ни о чём не расспрашивая. Ту газету, которую выписывал отец, я прочитывал, начиная, как я уже говорил, с передовой. Сейчас сам этому удивляюсь: что меня тогда привлекало в безликих материалах? Однако в одной из заметок (то ли в передовой, то ли в подписанной автором, не помню) прочитал, что ещё Ломоносов особо хвалил русский язык, который вобрал в себя всё лучшее из языков мира (мне особенно запомнилось «великолепие гишпанского» из-за смешного созвучия с шампанским). Поэтому, писала газета, не следует засорять язык великого народа иностранными словами.
Значительно позже, читая «В круге первом», я удивлялся Солженицыну, что тот заставил своего Сологдина действовать в унисон с официозом тех лет, которые описаны в романе. Ещё через какое-то время, прочитав другие солженицынские вещи, я этому удивляться перестал.
А тогда, после газетной статьи понял я, почему вместо «матч» Синявский стал говорить «состязание». Когда я поделился своим открытием со старшим братом отца, он усмехнулся:
– «Футбол» – тоже не русское слово. Синявский должен говорить о состязании по игре ногой в мяч!
– Ходил ли я в булочную? – спросил меня дядя Миша, – и обратил ли внимание…
– Обратил, – радостно сказал я. – Французскую булку переименовали в городскую.
– А канадский хоккей в хоккей с шайбой, – сказал дядя Миша. И добавил: «Делай выводы!»
Выводы я начал делать рано. «Так ты, Геночка, уже в 10 лет был противником Сталина?» – недоверчиво спросил меня мой старший коллега по «Литературной газете». Лучше сказать, что я в это время уже не был его обожателем. Остыл. Глаза потихоньку приучались смотреть на мир по-другому.
Что гуляла такая поговорка «Россия – родина слонов», я узнал позже. Но родилась она как раз в то время, о котором пишу. И школа этому рождению усиленно способствовала.
Что, к примеру, сделали с итальянцем Маркони, который одновременно с русским Поповым изобрёл радио? Его перестали упоминать как изобретателя. Остался русский Попов. А англичанин Стефенсон, придумавший паровоз? Оказывается, что братья Черепановы ещё раньше его что-то подобное сделали! Стефенсон тоже перестал упоминаться.
Словом, в детстве меня коробили эти подмены. Выходило, что русскому человеку принадлежали все открытия мира. И эта неправда не давала мне верить во многое, что происходило в стране при Сталине.
Я учился в шестом классе, когда 13 января 1953 года появилась в «Правде» знаменитая в будущем передовая статья «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». Среди этих профессоров-врачей преобладали еврейские фамилии. Свистопляска началась истерическая.
Сразу же после публикации статьи на классный час к нам пришла биологиня – парторг школы. Обычно она молчала и слушала, что говорит классный руководитель, что говорят ученики. Но здесь молчать не стала. От неё мы и услышали:
– У нас великая дружба народов! Но одному немногочисленному народу не по душе такая дружба! Особенно не по душе, что сплотились друзья вокруг великого русского народа. Вы поняли, о ком я говорю?