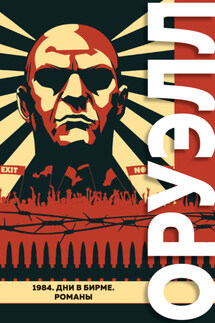Тень Агасфера. Заметки о жизни В. А. Жуковского - страница 7
Было бы неверно списать все на безрассудство любви Жуковского – у нас не раз еще будет возможность убедиться в том, что Жуковский никогда безрассудным не был, не знал ни мятежности любви, ни ее сумасбродства. Его зрение было ровным, может быть, даже слишком.
И еще: его глаза никогда не смотрели из-под маски – так, по меньшей мере, говорят все мемуаристы, буквально отождествляя поэта с искренностью и честностью. Поэтому и пришлось отказаться от авантюрного вопроса: «не замечал или не хотел замечать?» – последняя «двойная игра» у него попросту бы не вышла…
Он до конца дней (смерть Маши Протасовой в марте 1823 года – лишь середина его пути) действительно будет уверен в том, что Авдотью Петровну связывает с ним только дружба и ничего, кроме нее (родство – не в счет). Даже если бы она призналась ему в любви – ведь хотела же! – он, скорее всего, просто не поверил бы. Дуняша – молчала. Жуковский – не замечал, не видел, не «придавал значения». Он изливал ей душу – и волшебной осенью 1814, и позднее в письмах и при встречах, – совершенно не догадываясь, что ранит ее.
Авдотья Петровна выйдет замуж во второй раз – за Елагина…
* * *
Аня Юшкова, в отличие от своей сестры, не стала продолжать «линию родственной влюбленности» в Жуковского (хотя – сердцу не прикажешь). Она была первой его «подругой» – «одноколыбельницей» – няньки вместе катали их по саду… Этим и окрашена их дружба – по-семейному.
Анна Петровна была постоянным адресатом Жуковского, причем, достаточно сдержанным, рассудительным, может быть, даже холодноватым, что мало свойственно женскому уму; сама писала – под мужниной фамилией: Зонтаг. А занятие литературой, как известно, вернее всего отстраняет человека от человека в силу своей индивидуальности, сублимированности и еще множества причин, преломляющих то, что происходит, в то, что будет написано.
Думается, Анна Петровна как нельзя лучше понимала одну важную вещь: Жуковского следует держать на расстоянии – ради самого же Жуковского…
ПРОТАСОВЫ. Екатерина Афанасьевна. Маша. Мойер. Трое
* * *
Вижу райскую обитель…
В ней трех ангелов с небес… —
пел Жуковский под сопровождение своего друга, помещика по-соседству, «негра», как его в шутку наЗывали, Плещеева. У его супружницы – день рождения, гости, шумно, весело. «Три ангела», само собой, присутствуют здесь же – им и посвящен «Пловец», для них и поет Базиль.
Три ангела – Екатерина Афанасьевна Протасова и две ее дочери: Маша и Саша.
«Ангелы» Жуковскому не посторонние – родня, бунинская кровь…
Екатерина Афанасьевна – младшая дочь Бунина, а потому поэт приходится ей «сводным братом»; значит, и чувства должен был испытывать именно братские, а не какие-либо еще. Так поначалу и было…
Ее судьба несколько необычна для того времени – в силу своей независимости, эмансипированности, как мы сказали бы сегодня. После смерти мужа, безнадежно промотавшего свое состояние, Екатерина Афанасьевна вернулась из Сибири с кучей векселей; от долгов же отказываться не стала – правда, пришлось в срочном порядке распродавать имения. Осталось лишь небольшое – Муратово, да и то без господского дома. В Мишенское – колыбель – не вернулась: лучше устроиться где-нибудь скромно, но самостоятельно, «обязываться не хотела».
Протасовы поселились в Белеве.
В Белеве Жуковский решил устроить свой угол – занялся строительством дома – с видом на Оку. Это была его поэтическая «храмина» – говорят, что и проект дома он сам сочинил… Теперь в кабинете с высокой конторкой – Жуковский любил писать стоя – не доставало «мелочи»: вдохновения, чувства, повода…