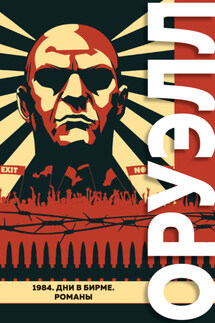Тень Агасфера. Заметки о жизни В. А. Жуковского - страница 5
Да и привычки подобной он никогда не имел. И тоже – с детства, с одной «детской истории», уже давно ставшей классической.
«Васенька нарисовал на полу изображение Христа; горничная Меланья, увидев его, бросилась на колени и начала бить земные поклоны. Сбежалась дворня, пришли барыни, и потрясенная Меланья начала рассказ, как комната озарилась светом, откуда-то полилась неземная музыка, сами собой растворились двери и на полу проступило божественное изображение.
Васенька испортил все дело. Он сказал: «Нет! Это я нарисовал» /2.9/.
Он прекрасно рисовал – и в детстве, и по жизни; и биограф обычно с гордостью приводит эту историю в подтверждение дара художника у Жуковского. У меня же она вызывает печаль – Васенька действительно испортил все дело.
Если бы Жуковскому даровать «глаза Меланьи», то, возможно, он увидел бы тень своего Агасфера гораздо раньше и, быть может, сделал бы его волей провидения чем-то вроде Фауста для Гете. Но о лилово-зеленых мирах он ничего не знал – удивительно был не мистичен. Его мир не раскалывался надвое, как это было у Гофмана, не впадал в сумасшествие, как случилось это с Гельдерлином и Батюшковым, не бракосочетал рай и ад, как это делал нищий художник Блейк, забытый на целое столетие. Можно назвать Жуковского «книжным романтиком» – таким его, переводчика, перелагателя, собственно и видели (пожалуй, лишь Меланья могла бы увидеть его «чернокнижником» – к всеобщей потехе).
Была в Жуковском, пользуясь термином У. Джемса, какая-то «религия душевного здоровья», исполненная здравого прагматизма (врачевание же как-никак), не позволяющая ему видеть зло мира, вчувствоваться в происходящее глубже внешнего счастья или несчастья.
Может быть, мы и не правы, позабыв про «мягкость и чувствительность» Жуковского, – здесь ли говорить о «толстокожести»! И все же не дает покоя в сердцах произнесенное: «Нет, это я нарисовал!» – и весь богатейший опыт мистического религиозного переживания (столь ярко явленный горничной) уступает место обыкновенно-обыденному объяснению.
В этом смысле – мистики, религиозной мистики, откровения и предчувствия – Жуковский был близорук…
* * *
Впрочем, еще о домашних.
В 1811 году умерла Марья Григорьевна Бунина, барыня, «бабушка», как называл ее Жуковский. А через десять дней, следом за ней – Сальха – Елизавета Дементьевна, настолько прикипевшая к своей хозяйке, что не смогла ее пережить, жить без нее, жить вне ее. Жуковский хотел одно время забрать ее с собой – ничего не вышло.
«Он почувствовал себя сиротой» – иначе и быть не могло; да и по-человечески понятно и объяснимо. Но в дневнике Жуковский все же обронит, непонятно, странно: «любил далекой любовью». Эти слова стали удивительной находкой – его отстраненность от другого человека теперь получала благородное обозначение, поэтическое звучание, еще безнадежнее скрывая то, чего он и так не видел.
Именно с этой «далекой любовью» – к кому бы то ни было и когда бы то ни было – Жуковский и был теперь обручен. Расстояние, дистанция становились мучительным счастьем его жизни. Однако, является ли это преступлением?..
* * *
Пушкин называл дружбу «любовью без крыльев». В жизни Жуковского дружба – «бескрылая любовь» – была возведена в абсолют, обожествлена, единственна; она была его гербом, была его гимном. Правда, теперь, в 1852 году, гимн звучал все тише и тише, да и торжественность его все больше напоминала обряд прощальный – поминальную службу. Жуковский жалел, что здесь, в Бадене, нет рядом его верных друзей – единственных, которые еще остались на этом берегу – Вяземского и Авдотьи Петровны Елагиной; они приедут его уже хоронить…