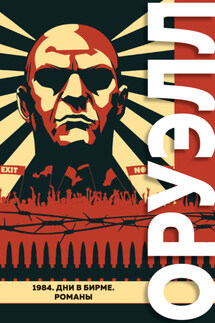Тень Агасфера. Заметки о жизни В. А. Жуковского - страница 4
«Плодами же греха и обиды», чем, собственно, и был наш герой, тем более в России никого не удивишь – любой дьяк все «несуразности и двусмысленности» исправит за четвертной.
Суть в другом.
Весной 1783 года Сальха взяла младенца, «принесла его прямо в господский дом и положила на пол у ног Марьи Григорьевны Буниной, не сказала ни слова и лишь выражала своим видом беспредельную покорность» /1.10/.
Говорят, что этим она хотела примириться с хозяйкой Мишенского, да и выбирать ей было особенно не из чего – вот и отдала, отказалась. Нам же остается лишь печально вздохнуть и спросить: может быть, еще «что-нибудь» родилось в те дни вместе с Жуковским?
Марья Григорьевна пообещала его воспитать как родного…
Афанасий Иванович «усыновлять» младенца не стал (два поэта Бунина для русской литературы – перебор). Сговорился со своим другом, «полуприживальщиком», обедневшим помещиком Андреем Григорьевичем Жуковским, который, крестив новорожденного, записал его на свое имя.
След Андрея Григорьевича, «отца», теряется еще в детстве поэта.
Да и само детство затерялось в счастливо-провинциальной дворянской усадьбе. Васенька, Базиль, был окружен любовью, жил среди женской ласки и балования, «рос барчонком»; вокруг мамки, няньки… Его пестовали, ему ни в чем не отказывали; природа, травы, орловское раздолье его лелеяли. Впрочем, даже в историческом времени, до божедомских достоевских, казенных мальчиков куприных, купоросных горьких и нищих надсонов было еще очень далеко. Пока детство русской литературы было идилличным – и Жуковский не был исключением из среднепоместного счастья.
Но ущемленность свою все равно чувствовал.
В дневнике 1805 года записано: «Не имея своего семейства, в котором я бы что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что был перед ними выращен, но не видал родных, мне принадлежащих по праву; я привык отделять себя от всех… Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем».
Борис Зайцев называет эту запись преувеличением /3.33/, соглашусь и я: приговор-то для домашних слишком неутешителен и жесток.
Только ведь дыма без огня не бывает, и такая «черная сыновья неблагодарность» рано или поздно обеливается – уже хотя бы так странно сложившимися обстоятельствами младенчества и детства: родители живы, а он словно вне их. Афанасий Иванович, правда, рано уйдет из жизни Жуковского – оставит по себе ощущение красоты службы и трепетную умиротворенность сельских кладбищ, но две матери – рядом, сводные сестры и племянницы – здесь же. Все – его и словно не его.
Это ощущение, неосознанное, лишь мучительно переживаемое, будет частым гостем в его душе – с раннего детства и до поздней старости; оно станет неотвратимой формулой всей его жизни —
он был среди всех и со всеми – и ни с кем не был…
* * *
Удивительно, но он даже не воспринимал свое положение мистически – так, по меньшей мере, происходит почти всегда с теми, кто «рожден необычно». Не воспринимал и в призме страстей, как это было у Лермонтова. Незаконнорожденность, а при ней и примирительное соглашение подле ног барыни, рождало в нем тихую отстраненность, отдаленность, ощущение неприкаянности. В этом, несомненно, была своя печаль, но трагизма не было – а потому переводить свое состояние в плоскость мистическую, волнующую и дикую, разумно не объяснимую, у Жуковского не было никаких резонов.