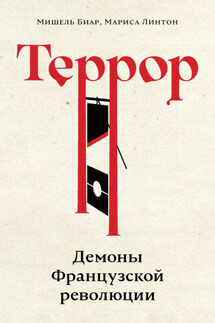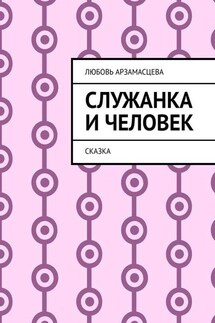Террор. Демоны Французской революции - страница 14
Можно было бы привести еще много подобных цитат. Этот лозунг также распространяют обращения департаментов в Париж, газетные статьи[82]. Впрочем, это делается в риторических целях, речь никогда не идет о применении того или иного декрета Собрания. С другой стороны, как справедливо указывал историк Жак Гийому, и без легализации лозунга его законность не вызывает даже тени сомнения, в том числе в Собрании[83].
Итак, никакого внесения «террора» в повестку дня не было, но нельзя ли тем не менее определить его хронологические рамки как периода времени? И если можно, то что считать его началом: лето 1792 года, когда был учрежден первый чрезвычайный трибунал, а потом, в сентябре, последовали убийства? Или весну 1793 года, время создания множества чрезвычайных институтов? 17 сентября того же года, когда был проголосован декрет, известный как закон о подозрительных? Создание Учредительным собранием комитета по расследованиям и определение уже в июле 1789 года как политического преступления клеветы на достоинство нации? Что до конца периода, то в историографии долго существовало некое согласие: концом считалась казнь Робеспьера. Тем не менее, несмотря на его тесную связь с изобретением так называемой системы террора и с виной, возложенной на робеспьеристов, которых превратили в удобных для победителей козлов отпущения, эта гипотеза не выдерживает проверки фактами.
Да, значительное большинство заключенных выходит из тюрем в недели, следующие за 9 термидора, тем не менее меры подавления политических противников продолжают применяться, прежде всего против эмигрантов, вернувшихся в ту или иную французскую коммуну, временно занятую иностранными войсками. Так, в Валансьене, оказавшемся в руках австрийцев 28 июля 1793 года и находившемся в оккупации до 15 фрюктидора II года (1 сентября 1794 года), в считанные недели после возвращения города был создан военный трибунал. За три месяца по его приговорам казнят 68 пленных, в том числе 37 священников и 15 монахинь, признанных вернувшимися на родину эмигрантами; при этом менее расторопный уголовный суд Дуэ разбирает дела 188 подсудимых, находившихся на административных должностях при австрийской оккупации, и приговаривает к смерти всего одного из них[84]. Эти цифры свидетельствуют о суровости мер, применяемых именно к эмигрантам и к уклонистам от воинской службы.
К тому же после казни Робеспьера механизмы революционной власти служат другим политическим целям в Республике, где под ударом оказываются два «крайних» движения на политической шахматной доске: Конвент принимает один за другим декреты, образующие юридические рамки для гонений на бывших виновников «террора», теперь превратившихся в преследуемых. Если включить политическое насилие 1795 года в период «террора» и объединять то, что называют Террором историки, с «белым террором» (первый порой называют для контраста «красным террором»), то невозможно будет не только утверждать, что Термидор положил конец Террору, но и дать последнему хронологические рамки и говорить о нем как о периоде. При всем том у французов – но не у историков – летом 1794 года действительно сложилось ощущение, что Террору пришел конец, этому послужило освобождение подозреваемых и помещение в центр термидорианского мифа виновности Робеспьера и его сторонников. Это не мешает существованию ключевых дат и сложных ритмов у явления, названного «террором», корни которого приходится искать в цепочке эмоций, а не только в последовательности событий.