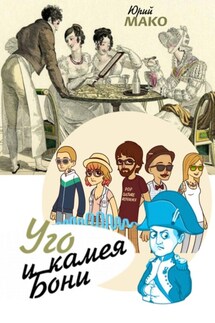The Curators - страница 3
Затем – деконструкция. Его интерфейс, как скальпель микрохирурга, начал рассекать память на составляющие. Зрительный образ отца-монстра? Отделить. Звук его крика? Выделить. Тактильное ощущение удара? Экстрагировать. Запах страха и алкоголя? Изолировать. Эмоциональный заряд – ядро боли – оставался, но лишался своих «крючков», привязок к конкретным сенсорным входам. Это было похоже на разбор бомбы.
Теперь – самое важное. Редакция. Алекс вызвал «якоря» – те самые фотографии из парка и с выпускного. Чистые, светлые образы. Он взял фрагмент из парка – отца, улыбающегося, качающего маленькую Свету на качелях. Нужно было вживить его внутрь изолированного, но еще не разрушенного контекста травмы. Мысленно, с ювелирной точностью, он начал заменять элементы. Искаженное лицо гнева – на улыбку с фото. Летящий кулак – на руку, мягко подталкивающую качели. Крик – на обрывок реального смеха отца, найденный где-то в ранних, незапятнанных слоях памяти Светланы. Запах перегара… Алекс порылся в «архивных шаблонах» – стандартных паттернах запахов, хранящихся в базе Архива. Нашел «теплый запах осенней листвы, смешанный с дымком костра». Подошел. Вживил.
Он работал быстро, уверенно. Мастерство высшего Куратора проявлялось в деталях. Он не просто подменял одно другим. Он переплетал ложь с крупицами правды, создавая новую, правдоподобную ткань. Ощущение качелей было реальным, из другого воспоминания. Смех отца – подлинным, хотя и вырванным из иного контекста. Осенний запах – синтетическим, но вызывающим приятные ассоциации. И главное – эмоциональный заряд. Алекс не мог просто стереть страх и боль. Это оставило бы дыру, которую сознание клиентки немедленно попыталось бы заполнить, порождая неврозы. Нет. Он трансмутировал их. С помощью интерфейса и своих навыков он сжал черно-красный сгусток ярости и страха, переплавил его в плотный шарик туманной, ноющей грусти. Грусти по тому отцу, каким он мог бы быть. Каким его теперь будут помнить.
Последний штрих. Интеграция. Он аккуратно снял карантинный барьер. Новое, отредактированное воспоминание – отец на качелях, его смех, запах осени, легкая щемящая грусть – влилось обратно в поток памяти Светланы. Оно прижилось мгновенно, как родное. Настоящие, ужасные фрагменты были помечены интерфейсом как «мусорные данные» и мягко, безболезненно стерты, замененные этим идеальным суррогатом.
Алекс вышел из погружения. Мир кабинета вернулся, резкий и четкий после психоделического тумана памяти. Он снял шлем, почувствовав легкую, привычную тяжесть в висках – плату за глубокое вторжение в чужое сознание. Светлана открыла глаза. На её лице не было ужаса. Только легкая печаль и… облегчение. Слезы текли по щекам, но это были тихие, чистые слезы.
«Он… он был таким добрым тогда…» – прошептала она, глядя в пустоту. «На качелях… Помню, как он смеялся… И пахло… пахло осенью…» Она улыбнулась сквозь слезы. «Спасибо, господин Вейн. Спасибо… Теперь я смогу… смогу с ним проститься… по-хорошему».
Алекс кивнул, избегая её благодарного взгляда. «Вы проделали большую работу, Светлана. Теперь ваш отец в Архиве останется таким, каким вы его любите. Чистым». Ложь, – пронеслось у него в голове. Чистая, профессиональная ложь. Он встал, передавая конверт с фотографиями Лене. «Поместите это в её личный фонд Архива. Ассоциируйте с новыми узлами памяти».
Когда Светлану увели, Алекс снова подошел к окну. Дождь не утихал. Он чувствовал знакомую пустоту. Горечь. Он только что совершил акт величайшего насилия над правдой, над памятью другой души. И сделал это безупречно. Зачем? Чтобы дочь не сломалась под грузом ужаса? Или чтобы Архив получил еще одного лояльного клиента, который будет платить за вечные сеансы связи с идеализированным призраком? Он вспомнил старый кошелек на столе. Кожа была потерта до гладкости в одном углу. Там, где он лежал в кармане… другого человека. Много лет назад. Алексу не понадобился Куратор, чтобы забыть тот ужас. Он сам выжег это каленым железом воли. И осталась только пустота и этот дурацкий кошелек, как нелепый артефакт утраченной эпохи.