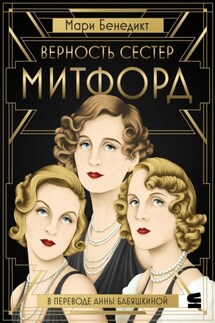Тоже Эйнштейн - страница 8
Я была благодарна папе за то, что он подвел меня к этому сверкающему порогу науки и жажды знаний. Единственное, о чем я сожалела, так это о том, что он по-прежнему волнуется обо мне – и о моих перспективах на будущее, и о благополучии моей повседневной жизни в Цюрихе. Хотя в письмах я старательно убеждала его и в том, что по окончании учебы меня ждет море преподавательских вакансий, если моей карьерой не станет научная деятельность, и в нерушимости строгого распорядка, которому подчинена моя жизнь в институте и в пансионе, – все же в его бесконечных расспросах чувствовалось беспокойство.
Любопытно, но маме, судя по всему, оказалось легче принять мой нынешний путь. Всю жизнь она не одобряла мою бунтарскую тягу к образованию, но теперь, когда я освоилась в Цюрихе, она, казалось, смирилась с моим выбором, особенно после того, как я стала пространно описывать ей свои прогулки с Ружицей, Миланой и Элен. По маминым ответам я видела, что ее радует эта дружба. Моя первая дружба.
Мама не всегда была так щедра на одобрение. До недавнего сближения наши отношения омрачались ее тревогами за меня – хромого, одинокого ребенка, так непохожего на других. И тем, как сказалась моя тяга к образованию на ее жизни.
В тот свежий сентябрьский день, почти десять лет назад, в далекой Руме – моем родном городе – мама даже не пыталась скрывать, насколько ей не по душе такой неподходящий для женщины путь, хотя решение продвигать меня дальше по этому пути принял сам папа, которому она почти никогда не перечила. Мы с ней совершали ежедневное паломничество на кладбище, где были похоронены мои старшие брат и сестра, умершие в младенчестве за несколько лет до моего рождения. Сильный ветер трепал платок у меня на голове. Я крепко придерживала его руками, понимая, как недовольна будет мама, если платок слетит, и я останусь с непокрытой головой на священной земле. Туго натянутый платок закрывал уши, заглушая заунывные стоны ветра. Я была рада этому, хотя и понимала, что этот жалобный вой вполне уместен там, куда мы направлялись.
Из церкви доносился запах ладана, сладкий и острый, под ногами хрустели опавшие листья. Я старалась не отставать от мамы. Холм был каменистый, подъем тяжелый, что маме было хорошо известно. Но она не сбавляла шага. Можно было подумать, что этот трудный путь на кладбище – часть моей епитимьи. За то, что я выжила, а брат и сестра нет. За то, что жива до сих пор, а других детей унесли болезни. За то, что из-за меня папа согласился на новую государственную должность в Нови-Саде – большом городе с престижной школой для девочек, куда можно было отдать меня, – а для мамы это означало разлуку с могилами ее первенцев.
– Ты идешь, Мица? – спросила мама не оборачиваясь.
Я напомнила себе, что ее суровость вызвана не только недовольством из-за переезда в Нови-Сад. Строгая дисциплина и требовательность – таков был ее неизменный рецепт воспитания детей в страхе Божьем. Она часто повторяла: «Как сказано в притчах: розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери» [1].
– Иду, мама, – отозвалась я.
Мама, одетая в свое обычное черное платье и темную косынку – в знак траура по моим умершим брату и сестре, – шагала впереди, напоминая черную тень на фоне серого осеннего неба. К тому времени, как мы добрались до вершины, я совсем запыхалась, но старалась, чтобы моего затрудненного дыхания не было слышно. Это был мой долг.