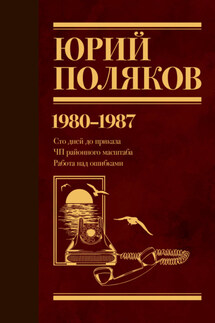Трава-мурава - страница 45
– А расчет? – отозвался глухой голос. И я понял: это Иван. – Девять верст туда да девять верст сюда. Поля-то с собой не захватишь.
– Расчет, расчет… Все у вас расчет. А без расчета не можешь?
Тут в избе поднялся спор. Спор чисто по-русски – без начала, без конца. Про Ивана, конечно, сразу же забыли. Крупно, российскими масштабами заворочали.
Капшин с неожиданной для меня яростью стал доказывать, что такие глухие деревушки, как этот Корнеевский починок, обречены самой историей. И при этом, как и давеча, упор делал на культуру. Чем тут дышать человеку в век космоса? А молодежь? Будет нынешняя молодежь жить той первобытностью, которой жил дед Корней со своими сыновьями?
Ему стал возражать рассудительный товарищ Ивана. Без культуры нельзя. Культура нужна. А как же с землей? Сколько таких деревушек заброшено по всей России?..
Спорили еще долго. И так и эдак прикидывали – не развязали узла.
Пашка, тяготясь затянувшимся разговором, опять стал приставать к Ивану. Иван не ответил. Тогда Пашка накинулся на Захара Воденникова, который давно уже изводил нас своим храпом, похожим на бульканье и клокотанье нерестующихся весной лягушек. Но разве пробьешься к нему сквозь ватные затычки?
Вскоре Пашка запосвистывал и сам. Капшин, дрыгнув ногой, тоже начал поддувать мне в затылок. А мне не спалось. У меня сна не было.
На улице за стеной потрескивает, дотлевая, костер. Красные отсветы дрожат в щелях боковых окошек. А что там, в переднем углу? Кто все время шуршит и скребется? Мыши развозились? Или это Иван не спит?
Я проснулся от холода.
Светало. Зевластая печь смотрит на меня. Но не гремит, не возится возле печки хозяйка. Не подает голоса со двора скотина. И мужики не торопятся в поле. Лежат, храпят, раскидавшись по всей избе…
Я тихонько поднялся и вышел на улицу. Боже, какой туман! Все заволокло – ни земли, ни неба.
По мокрой седой траве я срезал заулок и вышел на передки соседнего дома.
Углы дома обшиты тесом, на тесе следы давнишней краски, фундамент из толстых просмоленных стояков – основательно, надолго строили…
Потом, подняв голову кверху, я увидел грудастый конек-охлупень. Глядит, смотрит на меня из тумана деревянный конь. С конька свешивается веревочка с остатками засохшей и почерневшей рябины – такие связки, или садки, как их еще называют, по всему Северу раньше вывешивали на домах. Вкусна, сладка примороженная рябина, и от угара – первое средство…
Вдруг мне показалось, что в глубине дома кто-то ходит. Что за чертовщина? Не домовой же бродит по пустому дому? А шаги все отчетливее, все ближе – тяжелые, с шарканьем. Вот скрипнула половица, вот что-то упало, по звуку – в сенях.
Я завернул за угол и выжидающе уставился на крыльцо.
Вышел человек – высокий, светловолосый. В ватнике. Голенища резиновых сапог отогнуты.
«Наверное, это Иван», – подумал я и, когда человек подошел ко мне, спросил:
– Что, не спится?
– Привычка. Раньше мы, бывало, рано вставали.
Так вот она какая, корнеевская поросль!
Я вспомнил ночной разговор в избе.
– Который же все-таки ваш дом?
– Мой? А оба мои. Тот вот, в котором ночевали, моего отца, а этот – отца Марьи, моей жены.
– Интересно…
– Что – интересно? Что оба дома пустуют?
– Да нет, – смешался я под пристальным взглядом Ивана. – Редко все-таки сосед на соседке женится.
– А у нас так. Нас окрутили с Марьей, когда еще дома эти строили. Ребятами, считай. Давай, говорят, счастье к счастью.