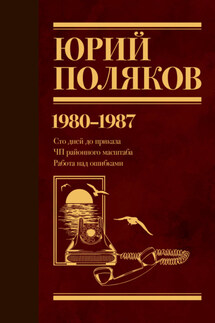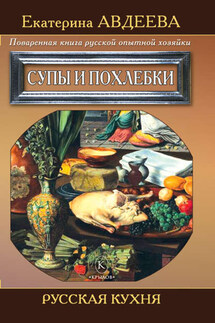Трава-мурава - страница 46
– Давно это было?
– A-а, что про это вспоминать, – отмахнулся Иван и опять пристально посмотрел на меня.
Затем прошел к своему дому, снял со стены ведерко из белой жести.
– Ежели умываться, то за мной.
Туман все еще плотно висел над землей, но кое-где уже всплыли верхушки кустов. Идти неприятно, мокро. Старая раскисшая трава бьет в колени, а сапоги у меня с короткими голенищами.
– Что же здесь? Не косят теперь?
– Не успевают, – ответил, не оборачиваясь, Иван. – Вот только с некоторых полей убирают. Да и то, разве это хлеб? У нас, бывало, тут рожь такая – поляжет, бабы стоном стонут. – Неожиданно, так что я едва не натолкнулся на него, Иван остановился. Посмотрел на ольшанинку, вынырнувшую из тумана перед самым носом, посмотрел вокруг.
– Вот как она, сука, уже на пожню вылезла.
Скулы у него побелели. Он потянулся рукой к ремню – видимо, по крестьянской привычке за топором – нету, ударил ногой. Ольшанинка хрупнула. Иван рванул ее на себя, отбросил в сторону, затем отвернулся от меня, стал вытирать о ватник руки.
Стало слышно, как внизу, в тумане, рокочет ручеек.
Я направился было прямо, но Иван окрикнул:
– Вода на питье повыше. А там раньше коней поили.
Спуск к ручейку выложен булыжником, с боков перильца березовые, еще довольно крепкие. А внизу, в зарослях ивняка и смородины, как бы чаша: по краям крупные темные камни с зелеными косами, а серединка чистая, прозрачная, с песчаным донышком, с похрустывающей дресвой, – бьют ключи.
Иван зачерпнул пригоршней воды, отпил.
– Зуболом вода. В войну где ни был, а такой воды не встречал.
– Тянет, значит, домой?
– Меня-то? Сам-то бы я ничего. Обжился. А вот женка у меня…
Он наполнил водой ведерко, плотно закрыл его крышкой.
– Это вот для нее, для Марьи. Лежит пластом, ноги отнялись. А как попьет своей воды – вроде полегче, вроде оживет немного…
Уже на обратном пути, раздумывая о судьбе этого человека и его жены, я спросил, почему же он не сделает, как другие, не перевезет дом на лесопункт. Ведь так же пропадет. Да и Марья, должно быть, в своем доме не так будет скучать.
На это Иван ответил:
– Хотел было. Жена не хочет. Думает все как-нибудь тут, на починке, умереть.
Помолчал и добавил глухо, провожая прищуренным глазом ворону, неуклюже слетевшую со старого прясла:
– Вот и у ней, видно, такая же думка. Человек жилье бросает, и ворона бросает. А эта не улетела…
Туман заметно спал. За домами красным пятном вставало солнце.
Когда мы вышли в заулок, там уже снова потрескивал огонь и все были на ногах. Товарищи Ивана стояли с ружьями. Один из них – постарше – подал Ивану ружье, а другой, Пашка, прощаясь с нами за руку, бесшабашно острил:
– Чур, только нашего медведя не убивать. Наш-то приметный – у него два уха на голове…
Булькнула вода в жестяном ведерке. Иван, по-крестьянски сгорбив плечи, зашагал на задворки.
Паша крикнул:
– Фу, полоумный! Опять повел новой дорогой! – И кинулся догонять товарищей.
И вот зашлепали, зашаркали резиновые сапоги в тумане. А людей не видно. Людей нет. Только раз на каком-то пригорке вспыхнула светлая, вся в солнечных искрах, голова Ивана и погасла.
А мы все стояли-стояли и глядели туда, в ту сторону, куда ушли охотники. И все мне казалось, что я слышу какой-то странный щемящий звук, похожий на бульканье воды в жестяном ведерке.
С крыш, кустов каплет? А может, это оттуда, снизу, – родничок взывает к нам?
1963–1964