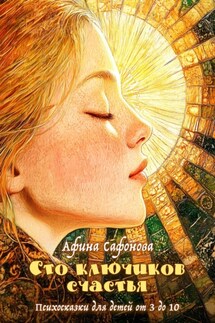Три истории обо мне - страница 3
Два дня я отдыхала в обществе Зои. Мы разговаривали с ней так, как разговаривают духовные, добрые и уважающие друг друга люди. Это был словно глоток свежего воздуха, словно сообщение мне от пространства: смотри, как бывает! Тебя, оказывается, можно любить, к тебе можно приехать и болтать с тобою о возвышенном, словно ты и в самом деле нормальный человек, и не просто даже человек… а известный человек, писатель, автор всяких методик и техник, ведущая семинаров. Словно ты – вот это всё, разом, словно ты личность, и зовут тебя Афина, а не Катя – нерадивая неряха, которой место у порога на коврике.
Тут приехала свекровь, и Зоя срочно уехала к себе на Ставрополье, почувствовав атмосферу начинающегося взрыва.
Затем супруг предъявил мне претензию, почему я посмела привести гостью, не спросив разрешения матери. И у меня случилось что-то вроде катарсиса наоборот. То Самое, наконец и совершенно полностью подкравшись из-за угла, обрушило на меня ведро с помоями, навсегда сказав мне, кто я тут и где моё место.
После взрыва была ледяная пустыня молчания и два месяца моей депрессии. Каждый день я ждала, не предложит ли тот, кого я считала близким, возобновить наши отношения; не скажет ли он, что мне почудилось, показалось; не скажет ли, что хотел бы жить со мною вместе потому, что я – это я.
А когда мои три грядки были обратно экспроприированы, перепаханы и засажены тем, что надлежит сажать на приличной даче, я перестала ждать и уехала. Я написала своему отцу что-то вроде «больше не могу, забери». И он приехал, забрал нас с дочерью и наши два чемодана – один мой и один с её игрушками.
До Дома оставалось пять лет.
После Взрыва наступила Проверка.
Есть феномен такой – посттравматическое расстройство; когда война закончилась, не бомбят, не стреляют, а человека отчего-то «плющит» хуже, чем на войне. Либо, пока длилась война, человек не замечал, что ему плохо. Не замечать, что тебе плохо – это функция адреналина.
И кто работает с психосоматикой, тот знает, что причину этого «плохо» видно обычно не в настоящем моменте, а в том, что был год-два назад, изредка – полгода. Болеть начинает тогда, когда не только война закончилась, а уже и пролитая кровь покрылась травой и цветами под звездой по имени Солнце.
(И, отступая от темы: по той же самой причине нельзя утверждать, что, если сейчас вы радуетесь миру, то должны завтра пройти ваши болезни. Почему завтра? Подождите, хотя бы, год, лучше два. И не забывайте каждый день радоваться).
…И вот, я выпрыгнула из «аквариума».
У меня была тысяча дел. Механическая пружина внутри, туго заведённая, сплющенная, чтобы не чувствовать боли, чтобы не верить тайному спрятанному внутри «меня не любят»; чтобы оно не всплывало, не душило, не устраивало истерик прямо на поле боя, когда надо собраться и идти в безопасное место.
У меня была тысяча дел. Я приехала в Балахну к отцу и сразу стала искать квартиру для съёма; сразу записала ребёнка в кружки и секции; и продолжала работать, конечно. Внутри меня что-то, заведённое, бежало и не могло остановиться, пока не кончится завод.
Однажды я прошагала пару километров до ребёнкиного кружка, по обычной балахнинской октябрьской погоде –5, снежок в лицо, ветер; в удобных тёплых зимних сапогах. И упала с болью в ногах. Обморозила. Не могла ходить всего лишь два дня; но вот тут-то нужно было остановиться, реально остановиться. Лечь в больницу, понять, что это обострение. Перестать, наконец, бежать. Понять, что бежать некуда, и то, от чего я бегу – ненужность, ничейность, бездомность – догнало меня, обогнало и припёрло ножичком к тротуару.