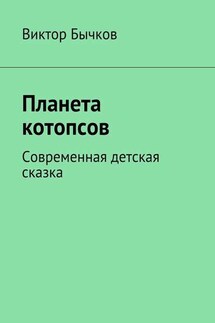Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга первая - страница 75
Сосуд в форме Сфинкса.
Аттика.
Конец V в. до Р. Х.
Эрмитаж. Санкт-Петербург
Гюстав Моро, как хороший знаток искусства и мифологии, использовал все основные «несочетаемости», синтезированные в образе античного Сфинкса[22]: львиное туловище, птичьи крылья, женское лицо и грудь. Но чтобы уловить метафизический смысл такого сочетания несочетаемого, нужно интуитивно погрузиться в сферы сознания, в которых мифы оживают как мощные и устрашающие имагинации. Такое сознание называется мифологическим и в своей реальности принадлежит архаическому прошлому, хотя Юнг признавал возможность исследовать эти – внешне исчезнувшие для современного человека – пласты психики при помощи своего рода палеонтологии сознания. Знание античной мифологии бросает свет в эту бездну, и тонкий лучик начинает высвечивать более чем странные и в то же время извечно знакомые образы и состояния. Тогда начинает выясняться и «генеалогия» Сфинкса, объясняющая метафизические основания для сочетания несочетаемого. Если не принять ее (генеалогию) во внимание, то Сфинкс будет казаться декоративной фигуркой, не лишенной эротического обаяния. Уже в эпоху заката мифологического сознания виден этот переход от мистериальной к обмирщенной интерпретации образа Сфинкса, хорошим примером чему служит Фанагорийский сфинкс из эрмитажного собрания.
Чтобы – хотя бы в минимальной степени – приблизиться к постижению мистериально-мифологических (в терминологии МС – астрально-оккультных) корней сфинксологии, надо попытаться оживить в сознании мыслеобразы, возникающие из глубин Античности. Синтетический характер Сфинкса становится понятней, если представить себе, что этому синтезу предшествовал еще более сложный теогонический синтез, порождением которого и явился Сфинкс. А явился он воистину из бездны как плод соединения Тифона и Эхидны.
Тифон – порождение Тартара и Геи. Тартар – это труднопредставимая Бездна, находящаяся неизмеримо глубже Аида. Начинаешь испытывать легкое головокружение при первой попытке оживить в себе античные мифы о Тартаре. Если искать аналогии в современной физике, то ближе всего к Тартару подходят исследования в области нанотехнологий, ведущих в мир (если это можно еще назвать миром), лежащий неизмеримо глубже микромира, изучаемого атомной физикой. Сфера Тартара – абсолютный Мрак. Никакой образ – даже относительно – не может дать представления об этой Бездне за пределами Аида. Эта Бездна, сочетавшись с Геей, и породила отца Сфинкса.
Миф о Тартаре хорошо подкрепляет теорию метафизического синтетизма, усматривающего в Абсолютном Ничто основание всех возможных типов сочетания несочетаемого.
Некто в черном (насвистывая): Ничто ничтойствует ничтойно…
Тартар сочетался с Геей, богиней Земли, входящей в теогонически-мистический