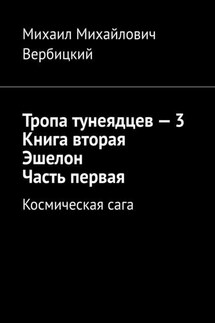Тропа тунеядцев. В августе 34-го. Из жизни контрразведчиков - страница 5
Алеша Попович махнул рукой, мол, допивайте сами, я не буду.
Морозов молча подсел к кружке. Ему налили первому. Он выпил и, по-прежнему, молча улегся на свое место.
Коля Колхозник выпивая, сказал:
– Будем здоровы.
– На здоровье. – Хором ответили ему.
Очкарик выпил, громко чмокая. Румын чуть пригубил. В итоге, Рахметову досталась почти полная кружка
– Тяни, не стесняйся, здесь все свои. – Сказал Румын, укладываясь на нары.
Рахметов выпил и вымыл кружку, над умывальником. Потом закурил, сходил по маленькому и, докурив сигарету, вернулся на место, которое ему негласно определили между Румыном и Валерьянычем.
Румын уже спал, улыбаясь во сне; счастливый, как дитя. Валерьяныч молча курил, лежа на спине.
Когда Рахметов лег, от окна донеслось тихое похрапывание, постепенно переходящее в звериный рык.
– Ну, Кабачок начал увертюру. – Сказал Валерьяныч, подразумевая захрапевшего Славу.
– Кабачки, они же – волосатые.
– Это они сейчас волосатые, а раньше были лысые, как Слава. Но Кабачок он – не по этому, а оттого, что на работе завернет пару-тройку кабачковых семечек в фольгу, зажарит на костре, а потом грызет целый день.
От окна донесся могучий рык, постепенно перешедший в тихое всхлипывание.
– Продолжение увертюры.
– Ничего себе увертюра!
– Подожди, – сказал Валерьяныч, посмеиваясь, – скоро начнется симфония. Он, как этих семечек натлущится, его потом всю ночь пучит. Вот тогда будет симфония. Очкастый, как пришел, сразу стал в позу: «Не могу спать напротив параши – я оппозиционный политолог!» Положили его на одну ночь к Славе, так он на следующий день плакал, просился к параше. Божился, что, мол, полюбил ее за одну ночь всем сердцем.
Подтверждая его слова, у окна рванула петарда и по камере потек насыщенный аромат сероводорода.
– Господа, это невозможно! Это, же похуже «черемухи»! – Всхлипнул в своем углу Очкарик.
Общество ответило на его претензии тихим похрапыванием.
Погружаясь в сон, Рахметов услышал раздавшийся от окна очередной выхлоп, а потом в голове закрутились калейдоскопом, какие то смутные образы. Это были веселые омоновцы, танцующие тени и грустная девушка стоящая над обрывом. Потом все это пропало, и сон стал тяжелым и мрачным. В голове мелькали, только какие-то черно – белые полосы и доносились издалека протяжные паровозные гудки.
Проснулся Рахметов, от общего шевеления, окостеневший и неповоротливый, с затекшей спиной. Воротник рубашки намок от пота.
Суточники, кряхтя и кашляя, сползали с нар и поочередно, не торопя друг друга, воспользовались услугами, которые им мог предоставить местный санузел.
После этого, все снова улеглись на нары. Тусоваться, по камере, никому не хотелось.
Только Толик забрался на радиатор и стал смотреть в окно.
– Ты, что угорел за ночь, пацан? – спросил Румын.
– Там – птичка. – Сказал Толик.
– Ворона, что ли? – Насмешливо сказал Морозов. – Тебе, что на работе ворон не хватает?
– Нет, настоящая птичка…
– Врешь, ты все! Откуда, в городе, птичке взяться? Они, сюда, не залетают.
– Была птичка. Я слышал – чирикала. – Грустно сказал Толик.
Морозов, обращаясь ко всем, покрутил пальцем у виска, но, его, никто не поддержал.
Разговаривали мало. Всем, с похмелья, было муторно.
Когда в коридоре раздались голоса и бренчание посуды, как предзнаменование скорого завтрака, это не вызвало особого оживления.
Толик, принимал миски с едой, через «кормушку», и передавал их Очкарику, который ставил их на нары.