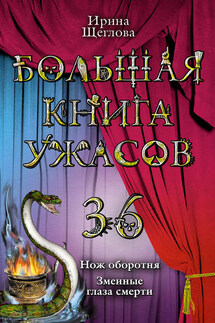Труды по россиеведению. Выпуск 4 - страница 2
Своеобразным продолжением темы «власть и память» является подборка «формула памяти» из нашей постоянной рубрики «публицистическая мозаика». В ней собраны выступления лидеров государства и РПЦ (в нынешней ситуации властноцерковной «симфонии» такое объединение показалось нам целесообразным) по историческим вопросам, имевшие общественный резонанс. Заметим, что публицистический раздел мы рассматриваем не как фон к основным материалам, а важную самостоятельную часть «Трудов…», дополняющую ее в проблемно-тематическом отношении и задающую важные смысловые ракурсы. И наконец, обращаем ваше внимание на подборку «формула истории», где известные историки отвечают на вопросы – о времени, о профессии и ее соответствии времени, о самоощущении и самополагании. Неожиданно для нас из этих ответов сложился единый текст: не зная о том, «опрошенные» говорят и спорят друг с другом. Сам жанр такого профессионального разговора представляется нам интересным и небесполезным.
Материалы о современной России отличают тематическое разнообразие, различие исследовательских языков, широкий спектр воззрений. Смешение жанров, тем, исследовательских подходов, мировоззренческих позиций (исключая крайние, социально опасные) вообще определяет образ издания. При этом наших авторов объединяет обеспокоенность происходящим в стране, стремление представить аутентичную картину происходящего, трезвость в его понимании.
Поэтому необходимо подчеркнуть, что нынешняя ситуация в России оценивается большинством авторов «Трудов…» как кризисная (у некоторых, повторим, ощущение кризиса доведено до последней степени остроты, трагизма). И все они озабочены поиском перспектив – ответов на вопросы: может ли Россия стать современной, т.е. адекватной современному миру, его вызовам, на каких путях – каковы модели развития, на которые следует ориентироваться, «дорожные карты», определяющие движение? Настойчиво предостерегающая интонация публикуемых работ, наличие в них «сценариев будущего», конкретных предложений по выходу из кризиса, т.е. своего рода зацикленность на вопросе «что делать?», сами по себе представляются симптоматичными. Это лишний раз указывает на серьезность нашего положения и в то же время свидетельствует о возвращении чувства перспективы, которое наше общество в последние двадцать лет, казалось, полностью утратило.
Когда-то советский режим ампутировал у России прошлое: все, что было до 25 октября 1917 г., рассматривалось как предыстория; история начиналась с Октябрьской революции. Взамен, правда, дал будущее; советское общество формировалось вокруг темы будущего. Утопия совершенного мира стала точкой зрения на настоящее; для поддержания футуристического проекта было «изобретено» прошлое. История послужила материалом для легитимации власти, «укоренения» советской социальности – самостоятельного значения она не имела. Концепция национального прошлого, созданная в советское время и ставшая элементом массовой культуры, была позитивно заряжена верой в будущее. Падение СССР уничтожило эту веру, а вместе с ней – оптимистический потенциал советской памяти (тех представлений о прошлом, которые сконструировал режим и усвоили массы).
Самоопределение постсоветизма происходило прямо противоположным образом. Точкой опоры послужило для него прошлое – ближайшее, советское («остальное» нас научили рассматривать как предысторию – все до- и несоветское мало значило в нашей жизни, да и советский масскульт работал монопольно и результативно). Причем в советской же интерпретации: попытки адекватно взглянуть на это прошлое, привести в соответствие историю и наши представления о ней (в 1990-е выяснилось, как радикально они различались; поэтому то было время не отречения от своего прошлого, а его обретения) имели ограниченное социальное значение. В «нулевые» годы болезненные ощущения неподконтрольности настоящего, разочарования были отчасти сняты массовым бегством в символическое убежище – понятный, привычный и потому комфортный и безопасный мир советского прошлого. Это наш «золотой век»: страна сбывшихся надежд, героических свершений и удовлетворенных (пусть и по минимуму) потребностей, завоевавшая мировое лидерство и обеспечившая социальную справедливость. Чем меньше оснований для гордости и уверенности в будущем давало постсоветское настоящее, тем больше общество погружалось в иллюзорный мир советского прошлого.