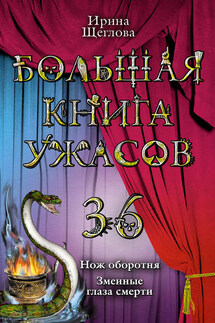Труды по россиеведению. Выпуск 4 - страница 3
Каким-то непостижимо естественным образом оно стало не только единственной точкой зрения на день сегодняшний, но и нашим будущим. Социальные перспективы для России-2012 монтируются по лекалам советского времени; оно задает нам эталоны. Однако все эти, казалось бы, безобидные и «полезные» обществу темпоральные манипуляции основаны на подменах и самообмане (горделиво-самоутверждающая память об СССР «абстрагируется» от факта его падения, историй массового террора, хронического дефицита, лишений, бедности, запретов всего и вся, изоляции от мира и т.п.), а потому социально опасны. Общество привыкает питаться утопиями, химерами, смотреть на себя с некритических, нереалистических позиций. Оно живет, ностальгируя, вне истории (факты – то, как было «на самом деле», – не имеют над ним власти), разменяв на утопические грезы реальные перспективы. Такой способ существования лучше всего говорит о его незрелости.
Зрелый социум не застревает в образах прошлого и будущего, дающих счастливое забвение; он обустраивает настоящее, понимая, что завтра будет таким, каким мы его строим сегодня, а сегодня – во многом «результат» дня вчерашнего. Мы же не хотим переходить во «взрослое» состояние, требующее ответственности, постоянного труда (на общее и частное благо), самоограничения, руководства идеалами, а не «придуманными» представлениями о себе. Погружение в иллюзорное дает возможность не касаться пугающих, острейших вопросов, которые ставит перед нами современность, но в то же время готовит почву для «антимодерной», архаизирующей реакции.
О том, что это такое и чем грозит, еще столетие назад писал П.Н. Милюков.: «Начало XVII века… представляет… любопытную параллель с настоящим моментом: параллель, которая повторяется и в начале XVIII, и в начале XIX, и в начале ХХ века. Во все эти моменты нашей истории спокойное национальное развитие прерывается катастрофами, которые затрагивают не одни только социальные верхи, но глубоко, с самого корня захватывают и народные массы. И всякий раз оттуда, с социальных низов или от имени социальных низов – поднимается движение, принимающее параллельные формы народного взрыва и националистической реакции. В первой форме движение направляется против “бюрократии”, во второй – против “интеллигенции” данного момента. Ничего творческого, ничего, кроме элементов “бытовой” и “этнографической” традиции, эти реакции в себе не содержат»1.
По мнению П.Н. Милюкова, социальные катастрофы обнажают глубокие пласты прошлого, которое «еще не умерло в настоящем». Из соприкосновения с ним рождается «подлинно московский протест против элементов культуры и сознательной идеологии во имя «бытовой» и «этнографической» традиции. Смысл этого явления один и тот же, хотя бы на заре XVII в. оно называлось борьбой против политического «воровства», «пестроты» и «малодушества», на заре XVIII в. – борьбой против «проклятого немецкого зелья» и «антихристовой печати», на заре XIX в. – против «либералистов» и декабристов, на заре ХХ в. – против «жидомасонов» и «выборжцев». Если угодно, тут есть бессознательная традиция стихийного единства»2. Проявившись в полную силу в катастрофе 1917–1930 гг., эта традиция не умерла еще и сегодня. Напротив, укрепилась и во многом определяет нашу жизнь.
Социальное большинство в начале XXI в. объединяет неприятие «бюрократии» («начальства», «зажравшихся верхов») и интеллигенции («ботаников», «бездельников», «болтунов», «либералов»), нежелание критически взглянуть на настоящее и узнать прошлое, стремление дать простейшие ответы на сложнейшие социальные вопросы, во всем «играть на понижение». Комплексы упования на власть и «особого пути», «ископаемый» национализм и антизападничество, ставка на насилие во всех социальных отношениях, психология «срединности» («я – как все», «моя хата с края», «от нас ничего не зависит») – это традиционный протест против современности, «модерных» (достижительных, состязательных и проч.) жизненных стратегий. Это своего рода социобиологические рефлексы защиты от мира – того сложного, непривычного, нестабильного, что в нем есть, всех его вызовов и проблем, порожденные низовым слоем массовой культуры. Препятствуя развитию (что всегда – усложнение, совершенствование, «экспансия»), традиционалистская реакция ограничивает социальную перспективу борьбой за выживание.