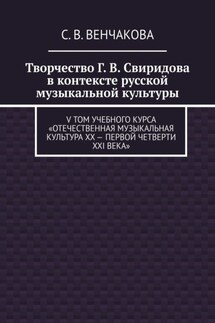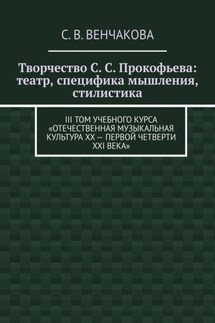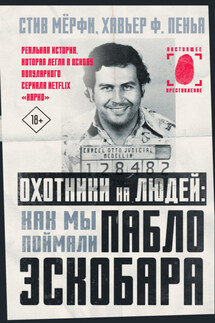Творчество С. С. Прокофьева: театр, специфика мышления, стилистика. III том учебного курса «Отечественная музыкальная культура XX – первой четверти XXI века» - страница 15
Средний период творчества насыщен исканиями; созданный в 1928 году балет «Блудный сын» по сюжету евангельской притчи (примечательно, что в творческом арсенале Дебюсси есть кантата «Блудный сын»), является важной вехой в творчестве композитора. Выбор сюжета, его трактовка поставил автора перед необходимостью воплощения этической проблемы. Процесс гуманизации искусства, начавшийся именно с этого момента в творчестве Прокофьева, словно открыл ещё один источник лирики и, как следствие, кантилены. «Блудный сын» и Четвёртая симфония – важные вехи на творческом пути Прокофьева. С них начинается перегруппировка художественных интересов композитора, всё более перемещающихся в сферу лирики, которая в будущем займёт центральное место. Примечательным в стилевом отношении является фортепианный цикл «Мысли» (1933 – 1934), воплощающие состояние глубокого раздумья. Здесь впервые открывается объективная способность к самосозерцанию, ведущая к сочинениям позднего периода, одним из которых является Восьмая соната (1939 – 1944).
Столкновение добра и зла Прокофьев передаёт с позиции эстетики классицизма, словно «пропускает сквозь фильтр обобщающего интеллекта, отсеивая преходящее и отбирая в современности вечное, всегда присущее человеку» [1, с. 110]. Роль эмоционального начала резко возрастает и сказывается на характере мелодики, определяя тип линии, протяжённость и ладовую структуру. Композитор стремится к созданию широких мелодических построений, возрождая некоторые черты романтической мелодики. Своеобразием мелодического мышления позднего Прокофьева служит особая трактовка «тактового времени» – он представляет собой обширный участок мелодического действия, обладает необычайной ёмкостью и вмещает большое количество событий (например, в рамках протяжённых тем Рахманинова такт является деталью в процессе развития темы). Появляется тенденция к переходу от одного состояния к другому в рамках экспозиционного построения, отсюда рождаются многоплановые образы, соответственно, увеличиваются масштабы мелодии. Ярким примером могут служить страницы балета «Ромео и Джульетта», где каждый персонаж «выписан» буквально до мельчайших деталей. Эмоциональное состояние героя раскрывается вместе с приметами его внешнего поведения (№10 – «Джульетта-девочка» демонстрирует четыре состояния героини); «портрет» Кормилицы содержит изобразительные штрихи в звуковысотной и ритмической организации (создаётся впечатление «прихрамывания»); показателен и максимально точен образ Меркуцио (сцена смерти Меркуцио мастерски передаётся ритмическими средствами: прерывистый ритм «рисует» угасающий пульс, причём мелодический тематизм сохраняется, как при первом появлении героя). Влияние речевых интонаций заметно в балете «Золушка» (лейттема героини). Говоря о мелодики позднего Прокофьева, следует ещё раз отметить проблему её интонационных связей: русская народная песня (кантата «Александр Невский» (1939)); романсовая сфера (Седьмая симфония (1951 – 1952), Девятая соната (1947)); солдатская песня («Семён Котко» (1939), «Война и мир» (1941 – 1952)); массовая песня (сюита «Зимний костёр» (1949), оратория «На страже мира» (1950), симфоническая сказка «Петя и волк» (1936), Соната для скрипки соло (1947) и др.).
Русская интонация становится неотъемлемым свойством мелодики Прокофьева, «интонации народной песни (например, трихорды как элемент ангемитоники) включаются в орбиту мажоро-минора, составляя единое целое. Для формирования новой прокофьевской кантилены воздействия народно-песенных принципов организации мелодической мысли имело огромное значение, оно сообщило ей ту естественность развёртывания и широту дыхания, которые являются специфической чертой кантилены» [1, с. 117]. Это не была стилизация под старину, а свободное освоение и дальнейшее развитие традиций в сочетании с тем, что композитор мог услышать в музыкальной современности и использовать из своего прежнего новаторского опыта.