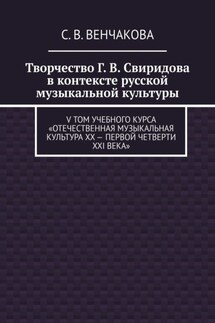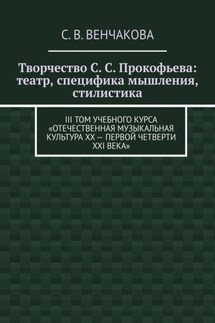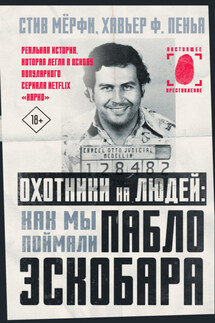Творчество С. С. Прокофьева: театр, специфика мышления, стилистика. III том учебного курса «Отечественная музыкальная культура XX – первой четверти XXI века» - страница 17
Использование усложнённых трезвучий в музыке Прокофьева также многообразно. Усложнённые трезвучия представляют собой аккорды, содержащие в своей основе трезвучия или его обращение, но не имеющие обычной терцовой структуры; а также аккорды с побочными тонами (трезвучие с прибавленной секстой). Трезвучие также может быть усложнено любым побочным тоном – могут быть присоединены тритон, большая и малая секунды, кварта (и др.) и соответствующие им остальные интервалы. В сочинениях различного периода творчества такие аккорды встречаются очень часто; трезвучие с тритоном также очень характерно для прокофьевской аккордики (Пятая симфония, главная тема финала). Соответственно изменяется логика звучания и восприятия гармонии, возникают новые особенности голосоведения, фактуры и гармонии: один побочный тон может переходить в другой; гармоническая ткань расслаивается; гармония становится полигармонией; побочные тоны могут доминировать над основным созвучием. Используя двузвучия как самостоятельные гармонические комплексы, Прокофьев в ряде случаев представляет колористический эффект, сочетая терцовые гармонии и звучащие как «разреженные» двузвучия. В первой части Пятого фортепианного концерта острая и в то же время лёгкая звучность достигается удвоением мелодии в малую нону. Стремление к ясности и законченности мысли, характерное для Прокофьева, проявляется, в частности, в многообразном применении полного совершенного каданса, и, соответственно, малого мажорного септаккорда, утверждающего последующую тоническую гармонию. Применение доминантсептаккорда часто встречается в музыке, связанной с детскими образами, с моментом стилизации – «Классическая симфония», некоторые страницы балета «Ромео и Джульетта». Часто Прокофьев применяет усложнения малого минорного септаккорда (прибавление повышенной септимы или повышенной квинты, причём альтерированные звуки могут заменять диатонические и звучать одновременно с ними). Подобные аккорды появляются уже в ранних сочинениях (Первая соната для фортепиано). Использование септаккорда с большой септимой, сочетающего остроту звучания и трезвучную основу, служит проявлением многообразия аккордики (кантата «Александр Невский», III часть, цифры 14, 17, 20, 23).