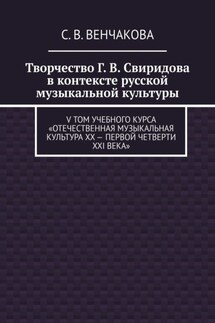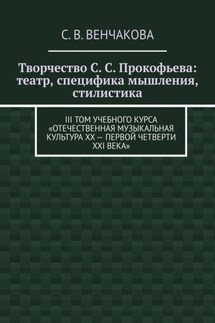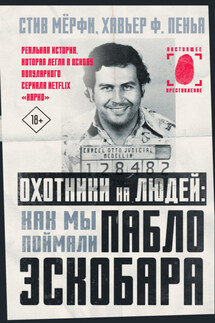Творчество С. С. Прокофьева: театр, специфика мышления, стилистика. III том учебного курса «Отечественная музыкальная культура XX – первой четверти XXI века» - страница 16
5. Некоторые черты гармонии Прокофьева в контексте эволюции стиля
Прокофьев относится к числу тех художников, в чьём творчестве нашли отражения многие черты музыкального мышления XX века, проявившиеся в различных элементах музыкальной композиции (гармонии, метроритме, тембре, фактуре), а также во взаимоотношениях между этими элементами. Изучение гармонии XX века является темой многих исследований русских и зарубежных музыковедов. Эволюция гармонии значительно изменила её концепцию, а также само представление о сущности гармонии. Музыка Прокофьева отмечена всеми чертами современного ему гармонического мышления. Проблемы аккорда и тональности относятся к числу центральных новаторских областей в общем контексте гармонии как одного из компонентов творческого стиля композитора.
Один из ведущих русских музыковедов XX века, Ю. Холопов, посвятивший множество исследований проблеме гармонии Прокофьева на протяжении всей эволюции творческого пути композитора, полагает: «Центральной из проблем аккордики новой музыки остаётся проблема диссонанса. Новое применение и новое понимание диссонирующих аккордов раздражало традиционное музыкальное мышление при столкновении с творчеством молодого Прокофьева… Ошибочно было бы полагать, что наступившие в заграничный и советский периоды „просветление“ стиля Прокофьева оказалось простым возвращением к классической трактовке диссонанса. На всём протяжении творческого пути композитора встречаются яркие примеры новой трактовки диссонанса» [24, с. 17]. Диссонансная аккордика и интервалика в самом начале XX века подверглась эмансипации, изменилась логика их использования и восприятия. Длительная эволюция обоих явлений постепенно стирала грани между ними и, наконец, освободила диссонанс от обязательного разрешения в консонанс.
Важно отметить, что в конструкции произведений музыке Прокофьева наблюдается явное преобладание гомофонно-гармонического склада. «Именно ладогармонический язык был для композитора главной сферой, в которой полнее и сильнее всего отражались стилистические изменения как результат эволюции творчества… и всё же, несмотря на преобладание гомофонного мышления, полифония вовсе не чужда Прокофьеву. Полифонические приёмы, в изобилии встречающиеся в его музыке, составляют как бы естественное дополнение к основному – гомофонному – принципу её построения. Роль полифонии у Прокофьева почти всегда вспомогательная, а не конструктивно-определяющая. Не случайно у него не встречаются полифонические формы, целиком простроенные на имитационности» [24, с. 22 – 23]. Примерами подобных произведений могут служить: сцена «Шуты решают убить своих жён» из балета «Сказка про шута…»; фугато в крайних частях из Andante Четвёртой симфонии. Композитор использует полифонические приёмы как метод развития во многих сочинениях: канонические эпизоды в финале Первого скрипичного концерта; различные соединения тем в кантате «Александр Невский»; приёмы вертикально-подвижного контрапункта – в вариациях из Третьего концерта; полифонические приёмы преобразования тем (увеличение, обращение) – в «Мимолётности» №15; во многих сочинениях зрелого периода используются приёмы подголосочной полифонии. Мелодизация голосов является наиболее частым проявлением полифонического мышления Прокофьева. «Ведущее значение гомофонного принципа в музыкальной конструкции у Прокофьева обусловливает важность категории аккорда в строении его гармонической вертикали. Интерес Прокофьева к аккорду, к его расположению, индивидуальному звучанию, столь ощутимый в его сочинениях и подтверждаемый его высказываниями, представляется совершенно закономерным для такого стиля, как прокофьевский, так как аккорд есть основная категория гармонической вертикали. Традиционное представление об аккорде – созвучие, располагающееся по терциям. У Прокофьева, особенно во второй половине его творческого пути, многие созвучия отвечают этому признаку» [24, с. 24], хотя для гармонического мышления композитора, естественно, характерно многообразие аккордов, повлекшее беспредельное расширение возможностей аккордовых сочетаний. Аккордика Прокофьева на протяжении эволюции стиля изобилует контрастами; наряду с классическими созвучиями композитор применяет «изощрённые» звукосочетания. Ю. Холопов [24] в своей работе предлагает следующую классификацию аккордики Прокофьева: область простых и область сложных по структуре аккордов. Простые аккорды включают трезвучия и септаккорды с обращениями, а также созвучия, имеющие непосредственное сходство с ними («неполные» аккорды, простейшие нонаккорды, двузвучия как самостоятельные гармонические элементы). Группа сложных аккордов включают аккорды, имеющие более сложное и необычное интервальное строение, а также полигармонические образования, возникающие как «разделение» многозвучного аккорда на части и как «сложение» многозвучия из нескольких частей. Этот принцип классификации и специфического использования аккордов является важнейшей характерной чертой аккордово-гармонического стиля Прокофьева. Часто конструктивную основу для образования сложных аккордов и элементов полигармонии имеет