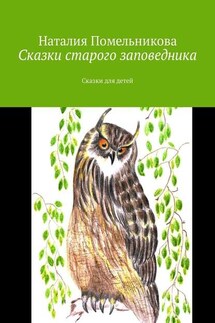Упражнение: зеркало - страница 4
Амплуа. Тошнит от этого слова. Нафталин, а не слово. Вот из таких штампов я и состою: я инженю я не героиня люби искусство в себе а не себя в искусстве ростом маловата голос слишком нежный невзрачная серая мышь не бывает маленьких ролей бывают маленькие актеры театр это святое играй каждый раз как последний болезнь не повод отменять репетицию умри но приди нельзя толстеть нельзя худеть нельзя делать татуировки нельзя красить волосы нельзя стричься для этой роли еще не доросла для этой роли уже старая а можно нельзя ну хотя бы попробовать куда суешься ишь чего главную роль она захотела театр храм храм храм и нет человечка. «Какая красивая! Сапожникова – моя любимая актриса» – врывается в мысли шепот у левого уха.
«Только зачем она такая подлая? Я бы ее, подлую, в порошок стерла! Подлая она и подлая! А я бы бросила бы ее или такую задала ей взбучку, что она бы целый месяц с синяками ходила, гадина!» На сцене вдруг что-то меняется, это не уловить взгляду и слуху, будто, наконец, появляется живой человек. Малова. Ее голос тянет меня за собой, вырывает из мыслей, я пытаюсь ему сопротивляться, но не получается, он выковыривает у меня под ложечкой тревожную черную ямку, выедает до рези в глазах. В заднем ряду молчат. Оборачиваюсь – притихли, пригвоздили взгляды туда, к источнику голоса, открыли рты. Я закрываю глаза, мне больно – то, что происходит сейчас на сцене, слишком хорошо.
Может, они все правы? Худрук, завтруппой, режиссеры, другие актрисы, которые не говорят в лицо, но намекают. Может, я и правда не дотягиваю? Но ведь раньше-то дотягивала. Возраст? Из старых ролей выросла, до новых не доросла, зависла в сучьем «между»? Вернулась к исходной точке, как будто и не было двадцати лет? А где она, моя исходная точка, моя точка отсчета? С чего вообще все началось?
Я сижу с закрытыми глазами, под ложечкой скребет, в памяти всплывает сцена.
«Ты чего?», «странная какая-то», «все в порядке?», «да дурочка она, не обращайте внимания», «реально, ку-ку» – этот звонкоголосый рой прерывается вопросом:
– Лилечка, с тобой что-то случилось?
– Все нор…маааль…но Зи…наид Иван…на… прост… понра…ви…ось… ооочень…
В очереди в театральный гардероб стоит девчонка и ревет навзрыд – очки в толстой роговой оправе запотели, глаза отекли, подростковое лицо покраснело. Ей очень стыдно, но она ничего не может поделать со слезными каналами. Она уже успокаивается, но неосторожное «Лиля, что случилось?» опять открывает шлюзы. Очередь гудит – у одноклассников после спектакля выходит энергия. У девочки Лилечки тоже выходит, только у нее это, кажется, называется катарсисом.
Вот где я слышала это. Месье Амилькар.
Я, семнадцатилетняя девчонка, сидела тогда в зрительном зале и ничего не видела, кроме огромных блестящих от слез и сценического света глаз. Ее глаз. Они смотрели в меня, в мой голый центр. Ее голос летел ко мне, скользил по телу, поднимал на нем волоски, делал меня невесомой, возносил над зрительным залом, над болтливыми одноклассниками. Она сняла с меня кожу, нежно гладила по мясу, по жилам, раскрыла грудную клетку, вынула оттуда сердце и поселилась под ребрами вместо него. Стала мной. Это и есть моя точка отсчета.
Как же ее звали? Актрису, которая играла проститутку в «Месье Амилькаре»?
Мое тело распластано на подсдутом матрасе, из полумрака выпирают его части, синеет колено, мертвеет кисть, глаза отупело пялятся в потолок, где шевелятся тени. «Лиля, только вы в этом жалком театрике в силах сыграть главную роль в новой постановке! Вы же тургеневская! Молю, не отказывайте, спасайте искусство! – падает на колено огромная черная тень и расплющивается по всему потолку, – Эти актрисульки мизинца вашего не стоят! Да у этой Сапожниковой темперамент как у вяленой рыбы! Да у этой Жировой сиськи тяжелее вашего хрупкого тела! Да эта Каметова…» Что уставилась? Укоряешь? Переигрываю, да? Смотрю на стену – в полумраке чернеет решетка мудборда, как окошко в тюремной камере, с нее смотрит мое молодое лицо. Я оттерла от крови фотографию с «Примадонн» и повесила на прежнее место, ведь теперь это мое зеркало, пусть я кривое ее отражение, но она мой утешительный обман, а иногда и отрезвляющая совесть.