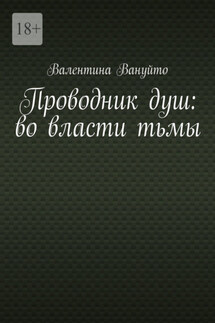Утраченный Петербург - страница 2
И еще сомнение, то самое, что обыкновенно заботит реставраторов: на какой момент восстанавливать здание? На момент постройки? Это значит, к примеру, на XVIII век. Но в XIX были сделаны пристройки. И они очень хороши и давно привычны, без них здание станет неузнаваемым. Как быть?
Вот и я не могу решить, о каких утратах рассказывать? О тех ли, что случились еще в XVIII веке, о тех, что произошли в XIX, когда Петербург превращался в капиталистический город, о тех, что постигли его в веке XX, о сегодняшних?
Так, не разрешив до конца сомнений, и приступаю к работе…
Утраты Петровского Питербурха
Петербург начинается с Петра. Уж тут-то нет места сомнениям и колебаниям. И то, что осталось нам петровского (даже если переделано, перестроено), не только прекрасно, но и остается градообразующим, как Петр и задумывал. Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Александро-Невская лавра, Двенадцать коллегий, Сампсониевский собор, Летний сад, даже Кикины палаты – центры, вокруг которых разрастался, вызревал город. А то, что утрачено. Как относиться к этому? Многое зависит от ответа на вопрос: почему? Не ценили, не берегли? Или время и сам город так распорядились? Ему, городу, нужно было расти, не отставать от времени.
Одна из самых горьких утрат – собор во имя Святой Троицы, который в народе называли Петровским. Он был заложен по велению Петра всего через четыре с половиной месяца после основания города и через три месяца с небольшим после закладки храма во имя апостолов Петра и Павла, на месте которого сейчас стоит Петропавловский собор. Поначалу это была совсем простая маленькая деревянная церковь. Через два года ее расширили, пристроили трапезную и колокольню. С мая 1714-го Троицкая церковь стала главным храмом Петербурга. Уже тогда было ясно, что она не может вместить всех желающих: город рос, люди все прибывали и прибывали. Пристроили еще два придела и красное крыльцо, на котором во время праздничных богослужений стоял сам Петр с семьей и придворными. Для благовеста повесили на колокольне огромный колокол – трофей, взятый генерал-адмиралом Апраксиным (о нем – дальше, в главе «Расстрелянный Растрелли») в захваченном у шведов городе Або. На колокольне поставили часы с курантами, каждую четверть часа игравшими «Господи, помилуй!». Их Петр распорядился снять с Сухаревой башни в Москве и привезти в новую столицу. Это – для душевной радости и красоты.
И первые обитатели города, и его иноземные гости дружно признавали, что Троицкая церковь – самая красивая постройка нового города. Она и правда при всей скромности была удивительно легкой и гармоничной. В этом мы можем легко убедиться, рассмотрев гравюру петровского времени «Троицкая площадь на Городском острове».
Ее автор, талантливый гравер Алексей Иванович Ростовцев, изобразил Неву, корабли и маленький изящный храм – то, что так любил Петр. Действительно любил. Потому каждое воскресенье и каждый праздник со всем семейством молился именно у Троицы, иногда даже пел на клиросе и читал Апостол.
Петр I
Гангут и Гренгам, Полтава и Ништадтский мир – великие победы России. Благодарственные молебны по случаю каждой из них служили в Троицком соборе. Там же 22 октября 1721 года отмечали присвоение Петру Алексеевичу титула императора. И каждый раз Троицкую площадь озаряли огни фейерверков, и звону колоколов вторил грохот пушечных салютов и восторженные крики «Ура!».