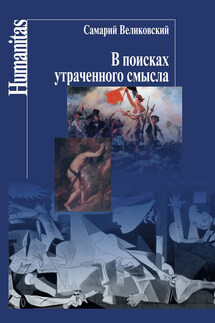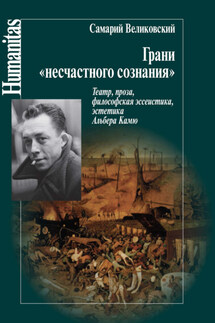В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков - страница 29
«В эту жестокую книгу, – писал Бодлер о «Цветах Зла» за год до смерти одному из знакомых, как бы отмежевываясь задним числом от иных ее «парнасских вкраплений» (вроде «Гимна Красоте»), – я вложил все мое сердце, всю нежность, всю веру (вывернутую наизнанку), всю мою ненависть. Конечно, я стану утверждать обратное, клясться всеми богами, будто это книга чистого искусства, кривлянья, фокусничества; и я солгу, как ярмарочный зубодер».
Предпосылка действительно жестокой в своей бестре петной честности и крайне разнородной по своему составу бодлеровской исповедальности не просто в невиданно откровенном, «как на духу», обнажении всего, что у него на сердце, но и в другом взгляде на человеческую личность, чем у непосредственных предшественников Бодлера из поколения Гюго, чтимых им и одновременно оспариваемых.
Признания этих «сыновей века» бывали и доверительно искренними, и удрученными, однако источник дурного, повергающего в скорбь, порочного помещался ими неизменно где-то вовне – в неблагосклонных обстоятельствах, убожестве обстановки, во враждебной злокозненности судеб. Потомок «сыновей века», пошедший по стопам своих отцов куда дальше и потому первый из «сыновей конца века» во Франции, Бодлер с усугубленной ранимостью, каждой клеточкой души и тела испытывает гнет неладно устроенной жизни, где он сам, носитель редкого дара, обречен на окаянное отщепенство в семье («Благословение»), в пошлой толпе («Альбатрос»), в потоке истории («Маяки»). Облегчение он находит лишь в том, чтобы обратить в горделивую доблесть доставшийся ему роковой жребий, истолковать свое «проклятье» как крещение в избраннической купели, предписав себе неукоснительный долг свидетельствовать от лица «каинова отродья» – всех отверженных и обездоленных, всех
«Лебедь». Перевод В. Левика
И все-таки вертеровски-байронический разрыв Я и окружающего, ценностная разнозаряженность, с одной стороны, самосознания, раньше неколебимо уверенного в собственной духовной правоте-чистоте, а с другой – неблагополучного миропорядка у Бодлера дополняются их зеркальностью, тесной сообщаемостью, взаимопроникновением. В потаенных толщах души, дотоле обычно однородной и всегда равной самой себе, Бодлер обнаруживает неустранимую двуполюсность, совмещение вроде бы несовместимого, брожение непохожих друг на друга задатков и свойств, легко перерождающихся в свою противоположность. С первых же строк пролога к «Цветам Зла», бросая вызов расхожим самообольщениям и для этого намеренно делая крен в сторону саморазоблачения, он приглашает всякого, кто возьмет в руки его книгу, честно узнать себя в ее нелицеприятной исповеди:
Перевод В. Левика[29]
Дальше, прослеживая от раздела к разделу «Цветов Зла» («Сплин и идеал», «Парижские картины», «Вино», «Цветы Зла», «Мятеж», «Смерть») мытарства взыскующего «духовной зари» в разных кругах повседневного ада, складывающиеся в одно долгое странствие по жизни навстречу избавительнице-смерти, Бодлер постарается частично выправить первоначальный перекос. «Сатанинское» он посильно оттенит «ангельским», наваждения «сплина» – томлением по «идеалу», ущербное – окрыляющим, провалы в отчаяние и отвращение ко всему на свете, включая себя: