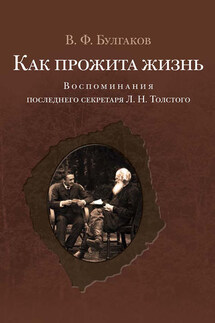В споре с Толстым. На весах жизни - страница 27
– Неправда, моя личность, освобожденная от пут тела, растворяется в Боге! – возражает нам доброволец аскетического самоистязания.
Но ему можно возразить, что, пока мы живы, Бог вовсе не требует этого от нас, иначе Он или природа, или воспитание не создали бы нас личностями со столь определенно выраженными и разнообразными индивидуальностями. Создавать существо только для того, чтобы оно отрекалось от себя, – неужто это входило в планы Бога или природы? Строение мира – монадообразно. И мы – монады. (Только не лейбницевские монады «без окон», абсолютно замкнутые в самих себе.) В монаде же, в начале личности осуществляется и
Божественное самосознание. Поэтому заглушение, уничтожение начала личности в живых существах, людях, умерщвление монады является не чем иным, как заглушением, уничтожением, умерщвлением и присущей Божественному самосознанию формы проявления в мире, – иначе говоря, бессознательным подыманием руки и на само Божество, на само Бытие.
Итак, в то время как «самоотречение» вынужденное, темничное есть нечто иное, как только упор, от которого удобно разбежаться, чтобы жить (всегда и во всех смыслах: в тюрьме – духовно, по выходе из тюрьмы – в равном, братском, любящем и благословляющем, а не проклинающем, радостном общении со всем Божьим творением), – «самоотречение» добровольное, фанатическое есть не что иное, как первые удары могильного заступа в руках человека – своего собственного могильщика или, еще точнее, как одна из форм самоубийства, – по Шопенгауэру: «отрицание воли к жизни».
Замечательным примером того, как, независимо от своей воли, инстинктивно, вовсе не будучи трусами, люди, даже очень высокие и духовные, но с неизвращенным еще монашеским аскетизмом сознанием, воспринимают необходимость страданий тела, является отношение первых христиан к мученичеству: они не искали его, но принимали как неизбежное. Прятались в пещерах от гонений, вызывая, как теперь бы сказали, «провокационные» насмешки римских властей («если для вас, как вы утверждаете, страдания и смерть за веру – радость, то зачем же вы скрываетесь от нас?»), но с величайшим достоинством и даже экстазом духовным представали перед лицо неизбежных страданий и смерти от рук настигших их мучителей.
Иные из них, разумеется, готовы были и к открытому исповеданию своей веры. Это были, однако, исключения: души наиболее пламенные и фанатичные. Не писаный, а внушенный природой и разумным сознанием закон, или, вернее, обычай первохристианской массы был другой. И разве мы бросим камень в первых христиан?
И еще: мученики среди первых христиан были, и притом едва ли не наиболее многочисленные, наиболее высокие в истории. А существовало ли среди них монашество, столпничество, анахоретство?>29 Нет. Все это появилось гораздо позже, в IV–V и последующих веках, когда христианство начало уже вырождаться. Тяжелый, напряженный и мрачный дух церковного средневековья и истинный дух Евангелия – это нечто совершенно различное и несходное между собой.
Далее, если бы мы склонились ко взгляду, что «самоотречение» само по себе есть что-то нормальное и неизбежное для духовного человека, своего рода цель жизни и сознательных усилий, то, следуя логически по тому же пути, пожалуй, пришлось бы признать благодетелями человечества не тех, кто пытался избавить людей от внешних бед и страданий, а тех, кто навлекал на них эти беды и страдания. Но ведь это – чудовищный абсурд! А между тем, когда говорят о высоте и о воспитывающей силе «страдания» («идея» Достоевского), то подчас, – искренно или не искренно, это не наше дело, но, во всяком случае, с достаточной определенностью, – склоняются или, вернее, скатываются к оправданию сознательного внесения в мир «очищающего» этот мир страдания. У нас в России таким образом, в 1914 году, публицисты-метафизики (С. Булгаков, Эрн, Рачинский) оправдывали войну. На тех же основаниях и с тем же успехом можно было бы оправдывать и каторжные тюрьмы, и смертные казни, – да это и делалось многими псевдорелигиозными и «христианскими» ретроградами как в России, так и на Западе. Толстой недаром говорил, что он никогда не простит Жуковскому его фальшиво-сентиментального проекта: производить смертные казни… в храме!